Из этой же группы «4 искусства» явились и другие близкие мне люди, такие как Вера Игнатьевна Мухина, чудесный скульптор и человек замечательный, необычайной силы, властности и энергии, абсолютной независимости, с необыкновенно большим душевным миром и большим душевным размахом. Это выливалось и в грандиозную монументальную пластику, и в лирические вещи — знаменитая группа, сделанная для выставки в Париже 1937 года, сопровождалась такими работами, как «Хлеб», одна из самых поэтичных и нежных скульптур, какие вообще есть в советском искусстве. Она была и замечательной портретисткой.
Из этого же общества, собственно, явилась и Сара Дмитриевна Лебедева, когда‑то бывшая женой Владимира Васильевича Лебедева, одна из самых тончайших скульпторов, какие у нас были, и прелестный человек, очень сдержанная, очень молчаливая, очень спокойная и с каким‑то поразительным, обостренным чувством характера и движения в своем искусстве. Что бы она ни делала, будь то большая ее статуя «Девочка с бабочкой», одна из лучших ее работ, будь то портреты, такие, как, например, портрет во весь рост, хотя и миниатюрный по размерам, Татлина, с его раскоряченными ногами, длинной лошадиной физиономией — было необыкновенно значительно и на редкость талантливо. Встреча с Сарой Лебедевой и добрые отношения с ней — это тоже одно из очень дорогих для меня воспоминаний.
Очень хорошие отношения, хотя близости особой душевной никогда не было, сложились у меня и с Павлом Варфоломеевичем Кузнецовым, человеком очень благодушным, немного недалеким. Впрочем, может быть, это была форма поведения, за которой пряталось что‑то большее. Купреянов его, правда, обозвал не очень добрыми словами: «тюлень, который пытается прикидываться львом». Возможно, это и соответствовало его характеру.
Он был очень простодушен, и проявлялось это в самых разных формах. К примеру, однажды в зал, где я развешивал гравюры и офорты Нивинского, Кравченко и эстампы других графиков, вдруг является Кузнецов, волоча за собой гигантский холст одного из своих учеников — аморфный, рыхлый, совершенно живописный. И когда я удивленно говорю: «Ну, куда же я его дену?», Павел Варфоломеевич отвечает: «Но ведь это совершенная графика!» Ничего менее похожего на графику нельзя было и придумать. Он очень заботился о своих учениках. Этот холст был, кстати сказать, Давидовича, который погиб в ополчении во время войны. Но с ним я почти не был знаком.
Во время работы в Ленинграде нам с Павлом Варфоломеевичем приходилось обедать иногда в самом Русском музее. Кормили там отвратительно, но ничего нельзя было поделать — не всегда можно было удалиться в гостиницу «Европейская» или в Дом ученых. Я помню, как раз мы сидели с Павлом Варфоломеевичем, и он из супа, который ему подали, вытащил длиннющий рыбий хвост. Он призвал официантку и спросил ее очень спокойно: «Вы что мне подали, уху или щи»? Она сказала: «Щи». Тогда он показал ей рыбий хвост, к ее великому смущению. Мне очень понравилась его серьезная заинтересованность в том, чтобы выяснить, что, собственно говоря, ему подали.
Очень приятной для меня была наша с ним встреча в Гурзуфе в начале 50–х годов, когда он затеял написать мой портрет. Он мне несколько раз это предлагал и в Москве, но в Москве мне было позировать некогда, а в Гурзуфе у меня никаких предлогов отказываться быть не могло. Он меня усадил наверху Коровинской дачи на фоне моря и написал огромную ярко — красную голову, похожую на грандиозных размеров помидор на фоне ослепительно синего моря. Он с великим удовольствием писал этот портрет, и я ужасно жалею, что он куда‑то задевался. Недавно мне, правда, сказали предположительно, что после смерти Кузнецова и его жены (у них никаких детей не было) все, что оставалось в мастерской, ушло в Саратов, в Радищевский музей. Очень может быть, что и мой портрет попал туда. Сходства там, пожалуй, было не слишком много, но просто приятна сама память. Я так и вижу его, как он сидит и с великим удовольствием пишет этот самый контраст яркокрасного с ярко — синим. Но, правду сказать, мне сидеть было трудно, потому что его жена Бебутова, тоже художница, решила меня во время этого сидения развлекать учеными разговорами. Разговоры, при всех ее потугах на ученость, были такие, что я еле — еле удерживался от хохота. Она тоже была человеком бесхитростным и простодушным.
С Кузнецовым близкая дружба вряд ли могла сложиться — уж очень мы были разные люди. Но вспоминаю я его с большим уважением. А художник он очень хороший, что показала его недавняя выставка совместно с Матвеевым.
А вот Матвеев, знакомство с ним, перешедшее в очень добрые отношения, — это было одно из самых главных моих «достижений». Человек он был очень суровый, очень молчаливый, очень сдержанный, замкнутый, медленно и мало работавший, вынашивавший каждую свою работу долгими годами. После него осталось совсем не так уж много вещей, но они замечательные.
Примерно в это время, не позже середины 30–х годов, я познакомился с Сарьяном. Это одно из очень важных событий в моей художественной биографии. Когда и где я его встретил, я совершенно не помню, потому что в музей он ко мне не приходил, поскольку никакой графикой особенно не занимался, и в выставках, которые я устраивал, не участвовал. А в Ленинграде в 1932 году сам он не был. Там была его стена, довольно случайная по своему составу, в общем не отвечающая его уровню и значению, хотя и красивая. Но по сравнению с тремя другими, блистательными стенами того же зала — Петрова — Водкина, Шевченко и Кузнецова, он выглядел скромнее, хотя в результатах своего творческого пути превосходил всех трех на много голов. Я написал о нем очень хвалебную, просто восторженную статью в 1936 году, уже его зная, и эта статья положила начало прочной дружбе, которая сохранилась до конца жизни Сарьяна. Кстати сказать, эта статья в «Литературной газете» 1936 года вызвала очень большое неудовольствие Кеменова, который тогда тоже, как и я, подвизался в «Литературной газете» в роли критика. Мы печатались с ним чуть ли не по очереди, стоя на диаметрально противоположных позициях и очень не одобряя взаимно друг друга.
После войны я часто виделся с Сарьяном — всякий раз, как он являлся в Москву. Я о нем несколько раз писал впоследствии, уже в 60–е годы и позже. Сарьяна описывать нечего — все его знают, но меня всегда поражали какая‑то детскость этого человека, его открытое, простодушное восхищение красотой реального мира, его бесконечное добродушное отношение к людям, хотя он великолепно разбирался, кто как к нему относится. В 1952 году на обсуждении юбилейной выставки выступил Борис Веймарн с необыкновенно пылкими тирадами, очень возмущенными в адрес беспринципного жюри, которое взяло на выставку ужасные картины Сарьяна. Потом, лет через пять всего- навсего, эти самые картины доставили Сарьяну Ленинскую премию, так что Веймарн заработал только то, что Сарьян до конца своих дней не выражался иначе, как «этот мерзавец Веймарн». И это при всей его доброте и солнечности, которая была не только в живописи Сарьяна, но и во всем его поведении, во всем его облике — олицетворение солнца, да еще солнца Армении. Это ведь совсем особое солнце. Одна из самых прекрасных стран, какие есть на земле, — Армения. Я это узнал в послевоенные годы, когда был там два раза.
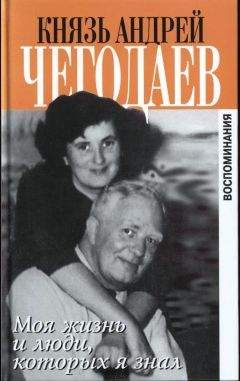
![Юлия Кулинченко - От топота копыт [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)


