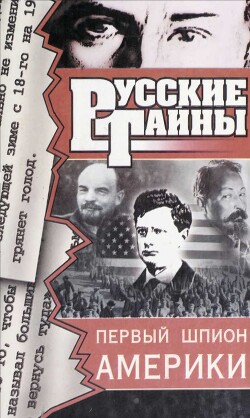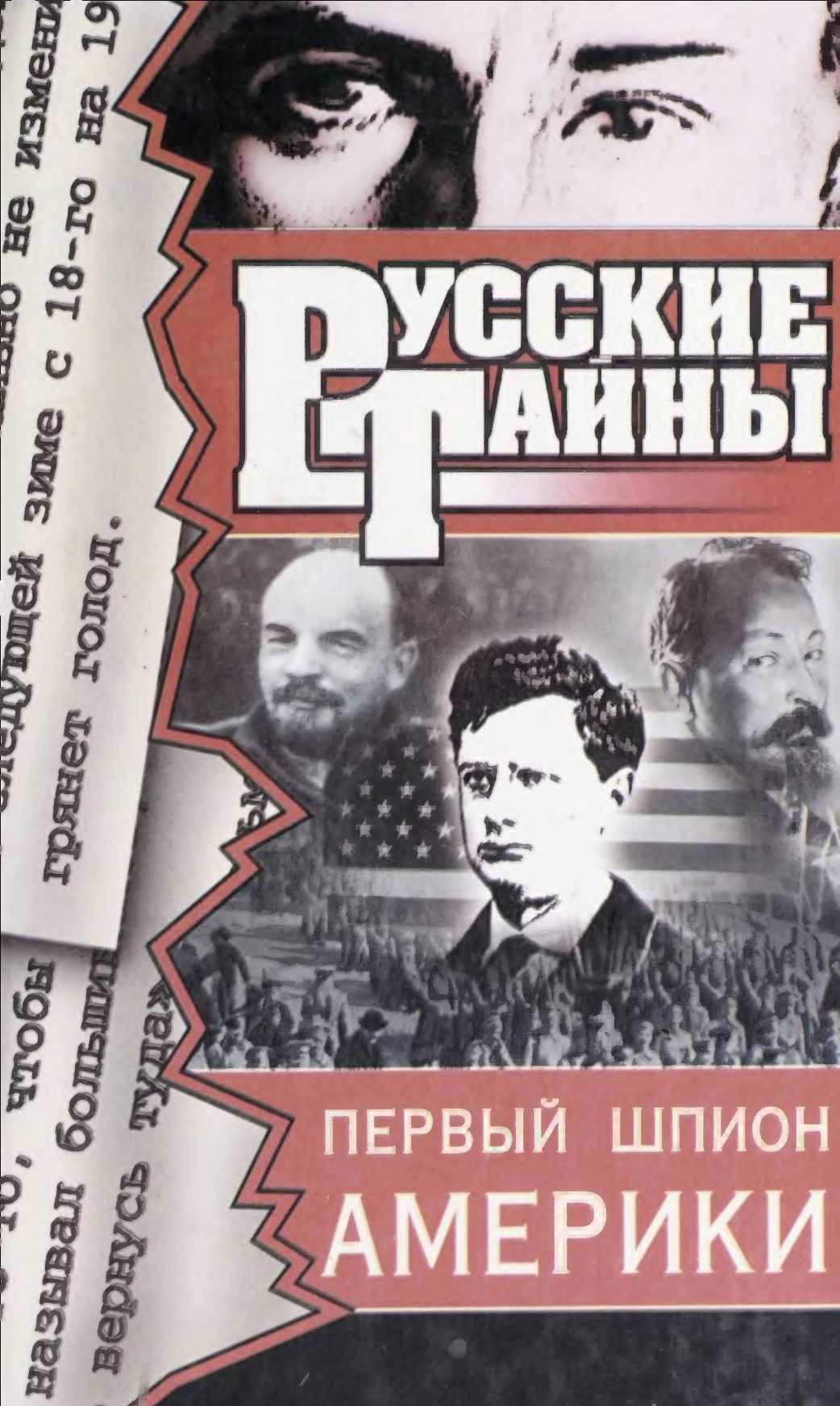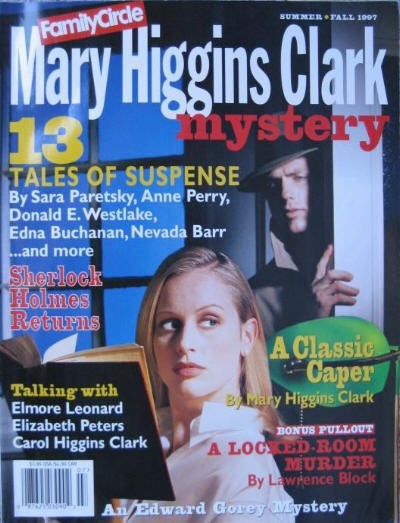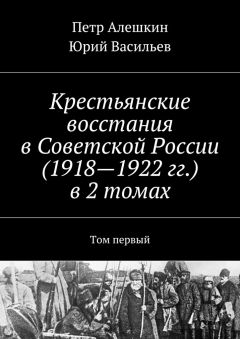Пул внимательно слушал Каламатиано, посасывая сигару и балуя себя глотком-другим виски, запасы которого подходили уже к концу. Ему нравился запал Ксенофона, хотя, будучи человеком прагматичным, он понимал, что осуществить этот заманчивый план будет далеко не так легко и просто. Фанатичные большевики без сопротивления власть не отдадут, они будут драться до последнего, и хватит ли сил у интеллигентов типа Локкарта и Каламатиано повергнуть наземь красного колосса? Он, возможно, и был глиняным на первых порах, но теперь уже бронзовеет.
— Что вы конкретно предлагаете, Ксенофон?
— Собрать членов всех иностранных миссий, кто, мы знаем, разделяет нашу точку зрения: Локкарта, Рейли, Лаверня, Всртемона, Гренара…
— Всех не надо, — перебил его Пул. — А наиболее толковых и ярких представителей. Рейли, Гренар, Всртсмон и вы. Все, хватит. Ну и я, естественно. Мы должны еще помнить о конспирации. Это не игра в карты. А потом вы отправитесь в Самару, чтобы договориться с чехословаками.
— Согласен. Только в этот список, может быть, включить Локкарта? — предложил Ксенофон.
— Зачем?
— Он придерживается такой же точки зрения, и его авторитет…
— У него нет уже авторитета ни в Англии, ни здесь, среди большевиков. А эта Мура, его любовница, вообще темная лошадка. Мы оба знаем, что она работает на немцев. Локкарт вам говорил, что большевики заполучили его шифр и два месяца спокойно читали все его донесения?
— Нет.
— Я понимаю, ему стыдно. Я не хочу грешить на Муру, но сами понимаете, Ксенофон, Хикс, бывший военный атташе, едва ли станет работать на большевиков.
— Тут есть одна неувязка. По логике вещей, Мура должна была тогда передать шифр немцам, а не большевикам.
— И о чем это говорит? — выпуская один за другим колечки дыма и радуясь их появлению как ребенок, проговорил Пул. — Это говорит о том, что наша очаровательная дама работает теперь на большевиков.
— Но…
— Ксенофон, не будьте наивны в отношении женщин! — рассердился генконсул. — Вы очень инициативный, деятельный человек и, кстати, неплохой конспиратор, трезвый аналитик, но почему-то продолжаете верить женщинам. Вы и в любовь верите?
— Да, — помолчав, выдавил из себя Ксенофон.
— Ну вот, что я говорил?! Это ужасно! Сентиментально-романтический шпион — это никуда не годится! Какая-нибудь Мура вас схватит и окрутит так, что вы и вздохнуть не успеете, как окажетесь в подвалах на Поварской. А она с гордой улыбкой пойдет дальше. — Пул поднялся и, заметив пустой стакан у Ксенофона, плеснул ему виски. — Ваш дружок Локкарт уже попался в женские силки. За такое в условиях военного времени, нда… — Генконсул выдержал паузу, давая понять, что Роберта давно следовало расстрелять.
Пул внимательно посмотрел на Ксенофона Дмитриевича, чем приведшего в смущение. Девитт точно знал, что его внезапный роман с Аглаей Николаевной, начавшийся в начале лета, бурно продолжился после того, как Каламатиано перевез свою семью на дачу. За все лето он побывал за городом у жены и сына всего четыре раза, оправдываясь постоянно огромным наплывом работы. Однажды, когда они лежали в постели, неожиданно заявились Петя и Синицын. Последний просидел до полуночи, не желая никак уходить и ломясь в комнату Аглаи Николаевны. Ему удалось даже сломать крючок, а Каламатиано в эту секунду залез под кровать, и подполковник чудом не обнаружил его. Аглая заплакала и потребовала, чтобы Ефим Львович немедленно покинул их дом. Петя встал на защиту матери, и Синицын скрепя сердце подчинился. Едва он ушел, Петя достал бутылку водки, разлил по двум стаканам.
— Ты хочешь, чтоб я с тобой вытпа водки? — удивилась Аглая Николаевна.
— Зачем? Пригласи Ксенофона Дмитриевича. Я думаю, сейчас ему тоже не помешает успокоить нервы алкоголем…
Лссневская изобразила недоумение на лице, но сын рассеял всякие сомнения:
— Я знаю, знаю. Один раз часа три гулял, поджидая, пока он выйдет. Не хотелось вам мешать… — Петя выдержал паузу. — Я все понимаю, и потом Ксенофон Дмитриевич мне самому нравится…
Каламатиано слышал весь разговор, находясь в комнате. Он успел уже одеться и, пережив несколько неприятных минут, решил открыться и Пете и Синицыну: глупо уже было прятаться и вести двойную игру. Лучше самому во всем признаться. Поэтому он вышел, появившись на пороге, и Аглая Николаевна залилась краской стыда.
— Давайте выпьем, Ксенофон Дмитриевич! — предложил Петя. — Я надеюсь, вы сегодня останетесь у нас, уже поздно, поэтому не бойтесь, что немного опьянеете. Иногда это полезно.
Каламатиано кивнул. Они чокнулись и выпили. До дна. Вернулась Аглая Николаевна, принесла закусить картошки с селедкой и малосольные огурчики, которые сделала уже сама из свежих.
— Тебе налить, мама?
— Капельку. Мне и этого хватит.
— Я хочу вам объяснить, Петя, что…
— Не надо, Ксенофон Дмитриевич, — прервал его Лесневский. — Не надо вам ничего объяснять. Я вижу, что мама с вами счастлива, и это лучшее объяснение.
— Но я хочу и с Ефимом Львовичем объясниться, чтобы больше не ставить ни Аглаю Николаевну, ни себя в столь глупое положение…
— Я думаю, и этого не надо, Ксенофон Дмитриевич. И вот почему: я боюсь всяких непредвиденных последствий. Он человек жесткий, любящий рисковать и подчас неуправляемый. Ему ничего не стоит убить человека, выстрелить в него, он мне сам рассказывал. И это было уже здесь, не на фронте, в мирных условиях. Он может убить вас, маму и даже нас всех троих, если у него заклинит в голове. Сколько времени я с ним общаюсь, но каждый раз не знаю, что он выкинет через пять минут. Я иногда боюсь его. У него бывает такой взгляд, что мурашки пробегают по коже, хотя мама знает, я с детства рос отчаянным ребенком и ничего не боялся. Однажды в деревне, где мы снимали дачу, сутки просидел в старом, вонючем, заброшенном колодце, куда случайно упад. Мне было шесть или семь лет, представляете? Я не кричал, не звал на помощь, а пытался сам выбраться. И выбрался-таки через сутки…
— А почему не позвали на помощь? — улыбнувшись, спросил Каламатиано.
— Это было ужасно, мы несколько раз, когда искали его, пробегали мимо этого колодца, а он слышал наши голоса и даже не откликнулся! Я чуть с ума не сошла! — просияла гордостью за своего сына Аглая Николаевна.
— Подожди, мама, не перебивай, дай сам расскажу! Я просто себе представил, что я, к примеру, на необитаемом острове, там позвать некого, и что я буду делать?! Поэтому я решил, что должен обязательно выбраться сам. Я поставил себе такую отважную задачу и решил ее во что бы то ни стало осуществить. Чтение Стивенсона, Майн-Рида, Купера — вы понимаете, откуда такие мысли произрастают. Но выбрался же. Хотя сидеть в вонючей жиже удовольствие, надо сказать, малоприятное. Но это я все говорил лишь для того, что, выучившись почти ничего не бояться, я довольно скверно себя чувствую в обществе Ефима Львовича…
Лесневский поднялся, нашел где-то папиросу и принес спички.
— Петя? — умоляюще проговорила Аглая Николаевна.
— Мам, ну одну! Честное слово! — Он закурил.
— Но зачем же тогда вы поддерживаете с ним дружбу? — не понял Ксенофон.
— Резонный вопрос. Поначалу Ефим Львович мне нравился: крепкий, волевой, мужественный, он умеет производить впечатление, но потом, когда начинаешь замечать эти отклонения, то поневоле думаешь, как бы дать деру, отлипнуть, но не тут-то было! Он уже держит тебя сам, причем держит мертвой хваткой, и ты не можешь двинуться ни вправо, ни влево. Стоит мне заболеть, вон мама знает, как он в тот же день вечером уже здесь, несет всякие продукты, лекарства, мед, травы и постоянно твердит: отец, умирая на фронте, завещал мне, то есть ему, стать для меня вторым отцом. Куда вот от этого денешься? И он как бы исполняет свято эти обязанности, хотя они для меня хуже хомута. Я пробовал один раз взбрыкнуть, поссориться с ним, но он мне в грубоватой такой форме сказал: ты от меня не открестишься! А если еще раз попытаешься это сделать, я возьму тебя, как кролика, за одну и вторую ногу и раздеру пополам.