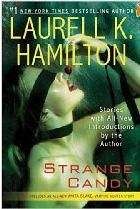Он родился в 1889 году. Детство провел в Вильно и в имении Кочуны в Ковенской губернии, у своих теток Констанции Прозор и Изабеллы Фронцкевич. Сначала хотел стать пианистом, но одновременно ходил в школу Трутнева (ту самую, где учился Хаим Сутин). После выпускных экзаменов уехал учиться в Петербург, где в 1916 году окончил Академию художеств.
Так значит, в двадцатом веке такая живопись, как у него, была возможна? Это кажется невероятным. Похоже, что в Париже, куда Слендзинский отправился в 1924 году, он не замечал ни импрессионистов, ни фовистов, ни кубистов, а, переехав в Италию, погрузился в Возрождение, прежде всего флорентийское. В своих индивидуальных и групповых портретах он хотел быть хорошим ремесленником, подсмотревшим приемы флорентийских мастеров. Он занимался полихромной скульптурой, поэтому некоторые из его портретов — барельефы, в которых нет ничего от прихотливости линий и сосредоточенности на цвете, характерных для двадцатого века. Из этого следует, что вопреки столетию, которое много рассуждало об искусстве с большой буквы и авангарде, он не творил, а исполнял — внимательно и старательно. Кстати говоря, он был членом группы «Ритм».
Мне кажется, что одна из его работ не похожа на другие — это «Оратория», символизированная панорама его любимого города, очень чувственная и волнующая. В 1943 году немцы несколько месяцев продержали Слендзинского в лагере в Правенишках[429] в качестве заложника. После войны он навсегда покинул Вильно, поэтому «Оратория» (1944) носит подзаголовок: «Исход из города».
Он стал профессором рисунка в Краковской политехнике, а затем ее проректором и ректором. Вероятно, можно было бы воссоздать историю кампании, которую развернули против него краковские художники, избравшие своим идеалом Францию, что в ПНР имело политический подтекст. Во всяком случае, его никогда не приглашали в Академию художеств. Должно быть, он посмеивался над их проблемами, когда они, отвыкшие от фигуративной живописи, были обвинены в «формализме» и пытались малевать человеческие фигуры «как живые». Слендзинского они вообще не считали художником, в лучшем случае стилизатором, и, наверное, называли его картины «жестяными» и «деревянными». Он же, как я подозреваю, видел в большинстве их полотен мазню — и, наверное, был прав. Из этого следует, что все мы живем во власти того, «что сейчас носят», даже не подозревая, насколько это закрывает нам глаза на совершенно иные возможности. Афронт, нанесенный Слендзинскому, был незаслуженным.
Его единственная дочь Юлита стала известной пианисткой и клавесинисткой. Благодаря ее пожертвованиям при городском музее Белостока была создана галерея имени Слендзинских. Я читаю журнал «Ананке», издающийся людьми, связанными с этой галереей и хранящими память о роде Слендзинских.
Людомир Слендзинский умер в 1980 году, прожив девяносто один год, и похоронен на Сальваторе[430].
Сознание, замутненное
Тех, кто всегда может похвастаться ясным сознанием, я могу лишь поздравить. К сожалению, я не принадлежу к их числу. Когда я оглядываюсь на прошедшую жизнь, некоторые ее периоды мне малопонятны, а состояние моего тогдашнего сознания трудно восстановить. Возможно, в те времена разговор со мной, несмотря на отсутствие внешних симптомов потери равновесия, убедил бы какого-нибудь здравомыслящего человека, что я рассуждаю по меньшей мере странно и одержим навязчивой идеей.
Неблагодарная это тема, ибо о ней можно писать и писать, что люди, впрочем, и делают — либо изучая свой внутренний мир, либо сочиняя пособия, как с этим внутренним миром разобраться. Ломящиеся полки с книгами, посвященными психологии, психиатрии, психотерапии, межчеловеческим отношениям и самосовершенствованию, в книжных магазинах Беркли подтверждают, насколько эта область привлекает читателей.
Допустим, сейчас у меня ясное сознание, и я с жалостью и ужасом вспоминаю свои фазы помрачения. Однако не совсем понятно, что с этим делать. От того, чтобы марать бумагу своими откровениями, меня удерживает чувство стыда — это все равно что явиться на бал в ночной рубашке. К тому же я знаю, что и так не скажу правду — ведь она многогранна, но стоит ей войти в слова, как она тут же начинает подчиняться законам литературной формы.
Впрочем, я должен отдать должное состоянию помрачения, когда мой ум, одержимый какой-нибудь страстью, работал словно белка в колесе. В конце концов, многие мои стихи были зачаты там, в мрачных коридорах глупости, или, что характеризует их несколько лучше, напоминают о том, как одна часть нашего естества покоряется, а другая, высвобождаясь, сохраняет дистанцию.
Сольский, Вацлав
Немногие помнят это имя, и уж тем более этого человека. Я был знаком с ним в Нью-Йорке благодаря его необычайному долголетию. Он вел там жизнь эмигранта: упрямо писал и издавал по-польски свои рассказы и воспоминания, хотя мне трудно сказать, кем были его издатели. Если он и принадлежал к эмиграции, то к самой неподходящей, о которой говорят неохотно.
Сольский (настоящая фамилия Панский) родился в Лодзи и там учился в гимназии. Выпускные экзамены сдал в Варшаве в 1917 году. Он рано проникся социалистическими идеями и вступил в Социал-демократию Царства Польского и Литвы. С тех пор действовал по другую сторону баррикад, в Минске: во времена первого Совета рабочих депутатов, то есть в самом начале советского строя, редактировал там коммунистические газеты на польском языке. По другую сторону баррикад он был и в 1920 году, когда вслед за Красной армией на запад ехала группа, которая, по замыслу Ленина, должна была стать будущим правительством польской советской республики (Дзержинский, Мархлевский, Кон). Когда победу одержала Польша, принимал участие в Рижских переговорах в качестве переводчика советской делегации. Затем делал журналистскую карьеру в Москве. Поскольку Сольский знал западные языки, в конце двадцатых годов он оказался в советском посольстве в Париже в должности пресс-атташе. В своих воспоминаниях он рассказывает о разочаровании французских журналистов, которые при царе привыкли получать в посольстве жалованье. Разумеется, они протянули руки за подаянием от новой власти — и ничего не получили, поскольку Сольский всерьез относился к чистоте революционной совести. Такая политическая наивность свидетельствовала о его плохой подготовке к жизни при советском строе, и вскоре он порвал с коммунизмом. Начиная с 1928 года жил в Германии, Франции, Англии и, наконец, с 1945 года — в Америке.
Довольно крупный, с черной козлиной бородкой, напряженный, но спокойный Сольский был в Нью-Йорке живой энциклопедией знаний о событиях двадцатого века. Даже в городе, где было полно подобных неудачников, он выделялся своими талантами полиглота. Он писал не только по-польски, но и по-русски, по-немецки, по-французски и по-английски. Из каждого разговора с ним можно было узнать очень много нового. Я воздерживаюсь от оценки его книг, поскольку читал их слишком мало, но они заслуживают внимания как летопись столетия и свидетельство удивительного переплетения человеческих судеб. Как прозаик он заботился о точности и простоте стиля.