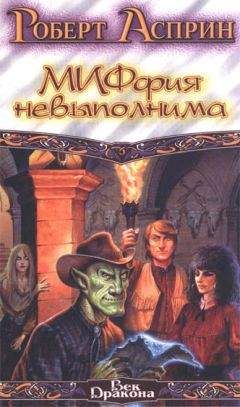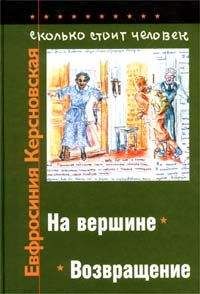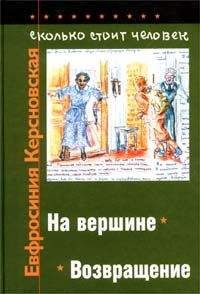О назначении нового секретаря обкома Бондарь догадывается, хотя точных сведений нет. О высоком начальнике можно предполагать только по грузам, прибывающим на партизанский аэродром. В большем, чем раньше, количестве привозят их девушки-летчицы. Они же пустили слух, что партизанский командир сидит в штабе авиационного полка, ускоряя переброску автоматов, тола, припасов.
Бондарь начинает совещание. Текущие вопросы решаются легко. Даже распределение бригад, отрядов по сельсоветам, чтобы посильно для жителей вести продовольственные заготовки, проходит спокойно. Сыр-бор разгорается из-за боеприпасов.
- Бондарь, дурную практику кончай! Своих горбылевцев только любишь!
- Почему им толу триста килограммов, а нам только сто?
- За два месяца бригада получила четыре автомата! Другим дали по десять...
- При Лавриновиче такой несправедливости не было!..
Кричат Деруга, Последович, Сосновский, Млышевский - все без исключения командиры бригад и отрядов, которые начали действовать с сорок первого года. Снова подает голос Лежнавец:
- Хватит, накомандовался! Прилетит командир - и поделит...
Лежнавец садится и предательски отводит от начальника штаба сердитый взгляд.
Побледневший Бондарь молчит. Что-то большее, чем автоматы и тол, таится за полными злобы выкриками командиров, которые забыли о дисциплине. Над столом поднимается осанистая фигура Вакуленки. Разгоряченные голоса стихают.
- Ты, Лежнавец, почему лезешь поперед батьки? - гремит домачевский комбриг. - Перемены почуял, стажем похваляешься? Верно, ты в лесу два года, но эшелона ни одного не сбросил. Ты думаешь, советская власть так уж будет благодарить тебя, что ты по кустам отирался да бобиков пугал? Надо делом брать, а не горлом! Горбылевской бригаде больше дали, так как с железки не слазят. Мне меньше выделили, но я не кричу.
Вакуленка - дипломат. Отстегал самого нахального, остальные сами языки прикусили.
Вечером Бондарь с Вакуленкой идут по сосновицкой улице. Во дворах кое-где мелькают темные фигуры, у землянок тускло светятся костерки. Жители готовят ужин. Фыркает привязанный к дереву конь, скрипит колодезный журавль - кто-то достает воду.
В том месте, где стояла штабная хата, пусто, глухо. Подворье безлюдно. Только в глубине огорода, как и раньше, темнеет кучка молодых груш-дичков.
Мужчины молча снимают шапки: Катя, хозяйка штабной хаты, погибла. Детей отвела в лес, спрятала, а сама кинулась назад. Что-то еще хотела унести со двора.
Молчание нарушает Бондарь:
- Помнишь, что Катя говорила? Человек предчувствует смерть.
- Брось, Павел Антонович. Смерть кругом витает. Предчувствуй, не предчувствуй... Если заварили кашу, кто-то в нее попадет. Хорошая была баба. Да разве одна она?.. Такая орда...
В сосняк, где стоят расседланные кони, командиры возвращаются хмурые, занятые своими мыслями. И только когда ехали по ночной дороге домой, в Батьковичский район, Вакуленка, поравнявшись с Бондарем, заговорил:
- А ты знаешь, я действительно хотел жениться на Кате. Муж у нее неказистый был, пьяница и погиб по-глупому. Надумал зимой в Птичи рыбу ловить. В прорубь угодил. Натерпелась она с ним...
Некоторое время едут молча. Небо усеяно звездами, взошел месяц, дорога просматривается хорошо. Ночь, однако, прохладная, Бондарь, одетый только в военный китель, раз за разом подергивает плечами.
- У меня, брат, грех на душе, - продолжает Вакуленка. - Теперь немного затянуло, забылся, а в первую зиму места не находил. Мою семью тоже сожгли. Жену, сына. Я с ними не жил, разошелся еще в тридцать шестом. Строгача с меня за это перед самой войной сняли. Прилепился к одной стерве. Собирался в семью вернуться, а тут - война. Новая нареченная в тыл драпанула. Ты, Бондарь, не обижайся, что на тебя кричали. Октябрьские командиры не любят вас, кто позднее в партизаны пришел, за то, что ваши семьи целы и что горя настоящего вы не видели. Эшелонами тут не докажешь. У того же Лежнавца отца, мать, троих детей и жену расстреляли, у Деруги жену и детей. Знаешь, песня есть: "Наши хаты спалили, наши семьи сгубили..." Это о нас вот такая песня. Сложена еще в первую зиму, когда Октябрьский район уничтожали. Немцев прогонят, а как нам жить? Если бы мне хоть лет тридцать было, а то ведь сорок пять...
- Есть и другие причины, - возражает Бондарь. - Партизанщина. Был бы я в армии... Тогда, брат, была бы другая песня.
- А по-моему, лучшее, что у нас есть, так это партизанщина. Народ силу показал и то, что он любит советскую власть. Когда белорусы на такую войну подымались? Привыкли на них глядеть как на тихих, покорных. Известно, болотные, лесные люди. А они видишь что натворили. Вся Беларусь кипит как в котле. Вот пожгли наши села, загубили столько людей, большая половина области, считай, уничтожена, а люди, погорельцы несчастные, слова плохого нам не сказали. Кормят, поят нас, будто ничего не произошло. Понимают, что иначе нельзя. Если пошел на врага - о хате не думай. Золотой у нас, Бондарь, народ. Только пожить ему по-людски не пришлось...
- Но на войне нужна дисциплина.
- Да брось ты про дисциплину! Ну, немного не любят вас, лейтенантов, капитанов, за то, что отступили в сорок первом, так что? Что ты хочешь от мужицкого войска? Вояки, сам знаешь, не очень. Но зато другим взяли всюду они, как муравьи, что ползают по всему лесу, а тащат в одну кучу. Вот едем мы с тобой и никакого черта не боимся. Полицаев разогнали, коменданты в норы зашились - наша земля. Армия под Курском от немца отбилась, а мы - тут. Автоматы, которые сегодня не поделили, - глупость, мелочь. Не автоматами партизаны сильны...
- Что ты предлагаешь, Адам Рыгорович?
- Я вот что скажу тебе, Бондарь. При нынешнем положении с новым командиром ты не сработаешься. Как я с Лавриновичем. Сам привык командовать, а тут новая метла. Хоть не очень нас с тобой слушали. Однако же гордость есть. Я вот переломил себя, пошел на бригаду и тебе советую взять пример.
Бондаря гнетет неизвестность, и сегодняшний взрыв на совещании штаба - предвестник этой неизвестности, которая неуклонно надвигается. Вакуленка это понимает лучше, чем кто другой.
- Сделаю, как ты. Горбылевская бригада разрослась, надо делить.
- За это хвалю, Бондарь. Молодец. Момент чувствуешь. Главное понять, кто мы такие. Все мы - я, ты, командиры, которые сегодня артачились и драли горло, - все мы уполномоченные. Нас на какое-то место поставили, и нас могут снять. Как о том колхозном бригадире до войны говорили - сначала выдвинули, а потом задвинули. Как, к примеру, я прожил свою жизнь? Шел туда, куда посылали. Кем, брат, я только не был! Сначала секретарем сельсовета, потом год работал в волости, заведовал избой-читальней, в коллективизацию председателем колхоза два года был, потом перебросили на сельсовет. Работал в сельпо, в райпотребсоюзе, а как проштрафился - послали заведовать мельницей. Директором льнозавода полгода побыл, последние четыре года - на заготовках. Как началась война, месяц поруководил райисполкомом...