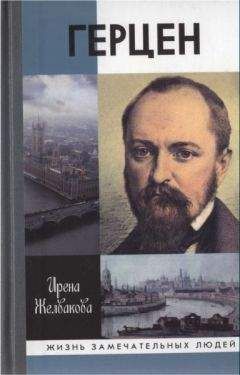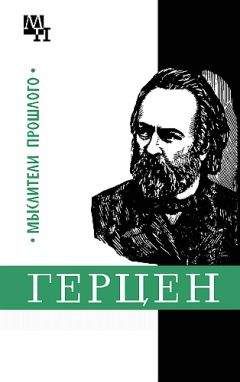В набросках автобиографии, за которую она взялась по просьбе мужа, обнаружились некоторые ее комплексы: «Воспитанье началось с того, что меня убедили в стыде моего рожденья, моего существованья, вследствие этого — отчужденье от всех людей, недоверчивость к их ласкам, отвращенье от их участия, углубленье в самое себя, требование всего от самое себя. Ничего от других».
Герцен, сам незаконный, не мог не понять душевного состояния «сироты», взятой из милости в чужой дом и ежедневно противостоящей домашнему деспотизму. Дисгармония в детстве постепенно затушевывается происходящим в ее судьбе. Встреча с Александром, казалось бы, доказавшая возможность гармонии, его обоготворение («…ведь он источник всего прекрасного, из которого пьет моя душа») оборачиваются высочайшими требованиями и к нему, и к их семейной жизни. Начинается «внутренняя, глубокая работа», ломка и перестройка прежних убеждений Натальи Александровны, выводящих ее к новому возрасту жизни.
Тридцатого декабря 1843 года — в семье прибавление. «В первом часу при Альфонском родился сын Николай. Ребенок здоров. Наташа как обыкновенно, — отчитывался счастливый отец в письме другу Грановскому. — Вперед загадывать боюсь. Будто камень с груди, и как-то хочется плакать. Доселе все хорошо — но я уже проучен». Тот же страшный вопрос: выживет ли? Потерь слишком много. Врачи, отслеживающие причины трагических повторений, ставят смертельные диагнозы появившимся на свет младенцам: водянка в голове, «головные кости не срастаются». Что это, наследственное? Близкое родство? Ответов нет. А боязнь, страхи все нарастают.
Врачи приговорили к подобной участи и всех будущих детей, а некто доктор Брок, которого заменили по счастью опытным и умным Альфонским, сказал, что не поручится за жизнь Натальи Александровны, если у нее опять будет ребенок. Но теперь «очевидно, что это неправда, — пишет Кетчеру Е. Грановская, — что натура приняла plis[75] и что все дети должны были родиться с органическим недостатком. Уж в этом Николашке нет никаких».
Увы! Через некоторое время ее муж, Т. Н. Грановский, играя с Колей на ковре, поднес к уху мальчика свои карманные часы и с ужасом убедился, что тот глух. Дальнейшая жизнь подтвердила частичную правоту врачей. Оставался в силе совет — воздержаться от интимной близости, названной ими словом «развод».
Наталья Александровна, невеста и жена, вполне могла почитаться одной из счастливейших женщин своего времени. Их встречей с Герценом «завязалась» его судьба. Романтическое похищение юной Наташи, их тайное бракосочетание поставило влюбленных на пьедестал исключительности. Он вырос, поверил в себя, стал дважды талантлив, потому что рядом с ним оказалась женщина любящая и талантливая, как не все.
«Никогда я не встречала такой симпатичной женщины, как Наталья Александровна, — так видела свою обожаемую подругу весьма пристрастный и ревнивый бытописатель Н. А. Тучкова. — Прекрасный, открытый лоб, задумчивые, глубокие темно-синие глаза, темные густые брови, что-то спокойное и несколько гордое в движениях и вместе с тем женственность, нежность, мягкость…» Ее удивляло, что некоторые из знакомых находили Наталью Александровну холодной: «… это была натура поэтическая, страстная, горячая, в кроткой, изящной оболочке». Равнодушных не было: ею восхищались, ее любили или недолюбливали, а попросту ей завидовали, и уж, конечно, ближайшие подруги, вроде Лизы Грановской и Маши Корш. Напротив, друзья Герцена — Огарев, Грановский, Бакунин были единодушны в своем восторженном отношении к Натали: «одна из самых изящных (читай, прекрасных. — И. Ж.) женщин», а их союз с Герценом на редкость един и гармоничен. Белинский разглядел в этой кроткой, болезненной, тихой женщине страшную энергию и упорство; писал своей невесте М. В. Орловой (15 октября 1843 года): «Скажет тихо — и бык остановится с почтением, упрется рогами в землю перед этим кротким взглядом и тихим голосом…»
Пожалуй, больше всего сведений об этом московском периоде жизни Н. А. Герцен, о ее характере и личности (помимо писем и герценовского дневника) находим в ее переписке с Т. А. Астраковой, благоговейно преданной своей ближайшей подруге и, несомненно, ближе всех связанной с ней духовно.
«Припоминая жизнь Герценов в Москве, начиная с 1842 по 1847 год… и пропуская из нее разные неприятные столкновения и грустные события, — пишет Астракова, — общее составляет такое отрадное, приятное впечатление, что с радостью пережила бы всю эту жизнь, послушала бы умных речей Герцена, побывала бы на лекции милого Грановского, — посидела бы с Наташей и с любовью поглядела бы на ее милое, оживленное личико, послушала ее симпатичного голоска, ее умной, доброй речи. <…> Тени лучших людей из ее кружка являются передо мною, как живые».
Неприятные столкновения и грустные события, к сожалению, омрачали жизнь. Семейные неурядицы не отпускали, постоянно напоминая о себе.
Вспомнился сентиментальный романист «нечитаемой памяти» А. Лафонтен, хоть и отвергнутый Герценом с взрослением, но заметивший верно: «Счастливо то семейство, о котором нечего сказать и ничего не говорят». Это писалось друзьям в момент наивысшего счастья, вскоре после его соединения с Натали. А теперь…
Помимо здоровья жены Герцена тревожило состояние отца. Старик не в лучшем виде. Болеет, дряхлеет, угасает день ото дня. Вот и встает вопрос о наследстве. Переговоры эти, как водится, неприятны, а порой и безнравственны. Яковлев непоследователен, как всегда, капризен. Он любит сына, но никогда с ним не сойдется, не поймет, ибо говорят они «разными наречиями».
Есть и другой законный наследник, двоюродный брат Александра Митя, Дмитрий Павлович Голохвастов, человек чрезмерно положительный, с твердой деловой хваткой и «скорой карьерой» (дорос до товарища, то есть помощника министра народного просвещения). Герцен вносит в галерею воспоминаний о своих особенных родственниках и его портрет: «Старший брат (из двух Голохвастовых. — И. Ж.) был блондин с британски-рыжеватым оттенком, с светло-серыми глазами, которые он любил щурить и которые говорили о невозмущаемом штиле души. С летами фигура его все больше и больше выражала чувство полного уважения к себе и какой-то психической сытости собою».
Вопреки воле отца Герцен решает отказаться от любимого Покровского, где прошло столько светлых и счастливых дней, «чтоб не быть причиною ссор и дальнейшей запутанности».
Случай вызывает его невольные размышления о собственности: он и прежде много думал об этом, уж точно социальном вопросе. Страницы дневника заполняются его наблюдениями: «Богатство, деньги — самый лучший оселок для человека. Патриотизм, смелая гордость, открытая речь, храбрость на поле битвы, услужливая готовность одолжить — все это легко встретить, — но человека, который бы твердо сочетал свою честь с практикой так, чтоб не качнуться на сторону 1000 душ или полумиллиона денег, — трудно. Собственность — гнусная вещь; сверх всего несправедливого, она безнравственна и, как тяжелая гиря, гнетет человека вниз; она развращает человека, а он становится на одной доске с диким зверем… Оттого ни одна страсть не искажает до того человека, как скупость… Расточительность, мотовство не разумно, но не подло, не гнусно. Оно потому дурно, что человек ставит высшим наслаждением самую трату и негу роскоши; но его неуважение к деньгам скорее добродетель, нежели порок. Они не достойны уважения так, как и вообще все вещи: человек их потребляет, употребляет — и на это имеет полное право, но любить их страстно, то есть поддаваться корыстолюбию, — верх унижения». Вскоре ему попадается и «прекрасное произведение» П. Ж. Прудона «Что такое собственность, или Изыскания о принципе права в государстве» с классическим тезисом: собственность — это кража.