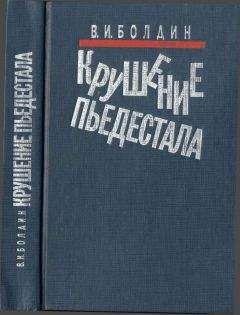А. А. Громыко быстро сдавал. Он старел на глазах. Я смотрел на него и видел уставший взгляд, болезненное состояние. Казалось, он смотрит на все происходящее с болью и тоской, его мучает причастность к трагедии, разворачивающейся в стране. На заседаниях Политбюро он, как я говорил, выступал все реже и все больше говорил о трудностях в жизни людей, часто обращался к воспоминаниям. М. С. Горбачев посматривал на членов Политбюро, подмигивал им, желая сказать: вот с кем приходится работать. Я говорил, что Михаил Сергеевич поначалу убеждал всех, что не повторит ошибок Брежнева и некоторых других, занимавших два поста, тем не менее форсировал уход А. А. Громыко и скоро встал во главе Верховного Совета СССР. Я давно понял, что, если начальство говорит «нет», значит, это надо понимать как «возможно», а то и просто как «да». В общем он был хозяином своего слова — мог давать его и мог забирать.
Повестки заседаний Политбюро последних месяцев существенно изменились. Важные, принципиального характера вопросы все реже выносились на обсуждение членов политического руководства. Возросла нервозность рассмотрения многих проблем, чувствовалась раздраженность выступающих, а иногда и апатия. Ко мне участились звонки и обращения прояснить, какая существует процедура оформления пенсий, могут ли сохранить прежнее медицинское обслуживание, какова будет пенсия. В прошлом пенсия членам Политбюро составляла 400–500 рублей, сохранялось медицинское обслуживание, предоставлялась дача, вызов машины. Но уже в ту пору все это было подвижно й неустойчиво, поэтому определенно я мог сказать немного. Тем более что все блага в конечном итоге зависели от расположения к человеку Горбачева.
На заседаниях разгорались дискуссии, возникали противоречия в оценках событий. Высказывания Е. К. Лигачева все чаще шли вразрез линии, проповедуемой генсеком. Но это относилось не ко всем вопросам. В чем были они едины, так это в необходимости осуществлять перестройку. Впрочем, необходимость перемен признавалась всеми. Разногласия касались главным образом сроков перемен, непонимания многими линии Горбачева на ущемление армии, военно-промышленного комплекса, партийных структур. А главное — непонятная непоследовательность в словах и действиях, частые отступления от согласованной линии генсека, заигрывания его то с левыми, то с правыми. Все это вызывало критические замечания со стороны ряда членов Политбюро или их молчаливое неприятие каких-то решений.
Энергично отстаивал свою точку зрения Е. К. Лигачев. О том, что он не во всем согласен с генсеком, в ЦК и партии знали или догадывались. Многие старались поддержать Егора Кузьмича в его действиях. Генсек чувствовал, что появляется лидер, способный объединить часть сил в партии и повести их за собой. Этого допустить М. С. Горбачев, разумеется, не хотел. Скоро Е. К. Лигачев стал объектом очень серьезной критики в средствах массовой информации, более того, его безосновательно обвинили во взяточничестве. Факт для деятеля такого уровня беспрецедентный: он требовал незамедлительного прояснения и быстрой реакции. Но М. С. Горбачев не пожелал открыто заступиться за своего ближайшего соратника. Мне он, правда, как-то сказал:
— Не думаю, чтобы Егор брал взятки. Не вяжется это как-то с его характером. Он многое мог сделать, но только не это…
Однако публично эти наветы М. С. Горбачев так и не дезавуировал, и Е. К. Лигачеву была предоставлена возможность испить до дна чашу незаслуженного позора, самому выбираться из грязи, прежде чем жизнь расставила все на свои места. Как политический лидер, он больше не был страшен генсеку, и М. С. Горбачев начал сужать поле его деятельности. Если прежде Е. К. Лигачев в отсутствие генсека председательствовал на заседаниях Политбюро ЦК, то теперь такая возможность существенно уменьшилась. Заседания в дни отпуска Горбачева проводились нерегулярно, из проектов повестки, которые он требовал присылать на юг, им вымарывались все серьезные вопросы. Скоро Е. К. Лигачев не мог в прежнем объеме проводить и заседания Секретариата ЦК. Генсек, бывало, говорил:
— А нужно ли нам два параллельных органа? Все, что следует, решит Политбюро ЦК…
Заседания Секретариата стали проводиться все реже и реже. Шла изоляция Лигачева как политического лидера, и в этом интересы генсека и тех, кто обвинял его во взяточничестве, объективно не расходились. Но паралич деятельности Секретариата ЦК стал и средством разрушения структур КПСС, всех ее организаций.
Борьба под кремлевскими коврами
Утро. О наступлении его можно судить лишь по команде «подъем». Загорается яркий электрический свет, и начинает играть радио. И так до 10 часов вечера. В семь часов на завтрак каша из непромолотого и непровеянного овса с мелкой костистой рыбой и чай с пшеничным хлебом. Что касается каши, то я с сожалением думаю об уничтоженном поголовье лошадей, которым она понравилась бы больше. Это не первый случай, когда я жалею о своей неистовой борьбе за механизацию и сокращение живого тягла. Вот они, плоды моих иллюзий. Нормальных крупорушек и веялок нет, а коней пустили на сервелат. Впрочем, зато хорош свежий хлеб армейской выпечки.
После завтрака пора ожидания. Самое тягостное время. Одни ждут допроса — чаще неделями, иногда месяцами, другие — встречи с адвокатами, третьи — свидания с родными или передачу. Я не жду ничего. Во всяком случае, ничего хорошего. Но именно меня и требуют к следователям. Мой черед идти пустыми коридорами и лестничными маршами, под вой сирен, оповещающих всех о том, что идет опасный преступник.
Иду коридорами вдоль камер, вдыхая все тот же острый запах тюрьмы. Этот запах — самое первое и сильное впечатление, которое произвела на меня «Матросская тишина». Это запах беды, запах тревоги, который связан с человеком в условиях наивысшей опасности, нервного перенапряжения. Им пропиталось все вокруг — стены, постель, одежда и даже эти коридоры, которые не могут проветрить гуляющие в них сквозняки. Этот запах властвует всюду, угнетая и изматывая нервы, держа в состоянии общей тревоги каждого, переступившего пороги СИЗО.
Еще один блок с решетчатыми дверьми, еще один переход с этажа на этаж — и вот обитель дознавателей. В комнате трое следователей и ни одного адвоката. Мне любезно вменяют 64-ю расстрельную статью и заверяют, что это минимум того, что они могут сделать для меня. С чувством глубокой признательности я окунаюсь в перекрестный допрос, пока не появляется адвокат. Впрочем, поток вопросов это не иссушает. Они представляют смесь нужного для расследования с обывательским интересом. Понять это можно. Разве их вина, что вершиной следственной практики для них были убийства, изнасилования, возможно, взяточничество в особо крупных размерах. Но никак не «государственный переворот с целью захвата власти». Такого они, может, не проходили или крепко подзабыли старые учебники. Хотя, видимо, не все. Иногда я возвращался с этих собеседований с чувством того, что нетленное дело Вышинского находится в надежных руках Степанкова.