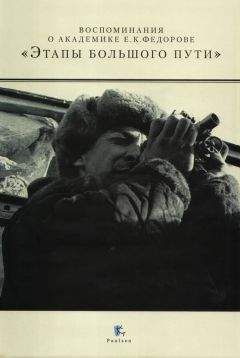Она была не только искусным кулинаром, но и великим честолюбцем…
В первый раз, после голодного «Водораздела» и изоляторской пайки с баландой в жестяной миске, съедавшейся в мгновение ока, — как ни хотелось растянуть это удовольствие, всё равно не получалось — зрелище этого сверкавшего белизной сервированного стола, хорошо, если не сказать — элегантно — одетых мужчин, сидящих над своими тарелками, вид ножей, вилок, салфеток — всё это до того поразило меня, что я вообще ничего не могла проглотить...
Потом — я наверстала! Лопала за четверых, не стесняясь просить у Маши вторую и третью порцию. Но вскоре, правда, «отъелась» и стала, как и другие, лениво ковырять вилкой в тарелке…
Хотя на третье всегда было что-нибудь сладкое — компот, кисель, или кусочек торта — великолепные изделия нашей Маши — после обеда отворялись буфеты, где у каждого имелась собственная полка, и оттуда доставался свой собственный десерт — яблоки, апельсины, виноград, конфеты, а иногда и бутылочка сухого вина. Это были либо присланные родными в посылках лакомства, либо приобретённые в магазинах в Медвежке. Наши стражи всегда охотно и любезно выполняли поручения по части покупок, не отказываясь от кое-какой мзды за это.
Первое мое душевное движение по отношению ко всем этим людям — было враждебное раздражение и презрение…
Все они казались мне подхалимами и лизоблюдами, распластывающимися перед начальством за эти несчастные крохи благополучия, за сытое брюхо, за посылки и свидания, которые им давались вне всякой очереди.
Но потом, когда я познакомилась с ними поближе, я поняла, как несчастны все они, несмотря на то относительное благополучие, которым они пользовались в заключении. Ведь всё в мире относительно!
В большинстве своём это были крайне наивные, простодушные и устремлённые в себя хорошие люди — по крайней мере те из них, с которыми мне пришлось познакомиться поближе.
Существовали они как бы в стороне от жизни, замкнувшись в своей работе, в своей науке, к которой относились со страстью, отдавая ей все помыслы, всю энергию. Это был смысл их жизни.
Ну, а помимо того, большинство из них имело семьи, свой надёжный, обособленный и боготворимый мирок, потерю которого они переживали трагически и не менее остро, чем все другие, у кого на воле остались жёны, дети, родители…
Все они были аполитичны — так, по крайней мере, мне показалось — и даже то, что стряслось с ними, что хлопнуло, как обухом по голове — ничему их не научило, не пробудило интереса к политике. Они всё расценивали как плод чудовищного недоразумения, так же как вначале думала и я, и другие интеллигентные люди, попавшие в эту «мясорубку» государственного террора.
И они все ждали разрешения этого «недоразумения», и с неистовством одержимых работали здесь, где их знания и опыт могли оказать существенную пользу стране, глубоко веря и наивно полагая, что это оценится, зачтется в заслугу, примется во внимание при пересмотре дела, которого они ждали со дня на день — уж какое тут вредительство!..
…Возможно, что я и ошибаюсь, называя их «аполитичными». Скорей всего, большинство из них приветствовали революцию, как некий символ — идеал русской интеллигенции, и именно это — наивная вера в революцию и в конечное торжество ее великих идеалов — толкнуло их работать на Советскую власть.
Когда я рассказала им о «Водоразделе» и моем бегстве оттуда — они были поражены больше, чем сотрудники 3-го Отдела Белбалтлага. А потом они наперебой старались закормить меня сладостями и фруктами, оказать мне хоть маленькие знаки внимания и уважения…
А от меня ждали доносов на этих, в сущности, добрых и наивных людей! — Ну и пусть ждут, пока не убегу — думала я…
…Самое приятное место здесь было — столовая. Помню, как я сижу рядом с Варюшей за нашим длинным обеденным столом, накрытым свежей скатертью. С другой стороны мой сосед — старый еврей, учёный-химик, по фамилии Эгиз. Он и здесь, в лагере, сохранил благообразно-патриархальный, интеллигентно-еврейский облик — всегда в своей потертой кипе, с бородкой клинышком и длинными пейсами. Малоречивый, всегда печальный, как-то особо одинокий даже среди пудожстроевцев, ко мне он относился особенно внимательно, или верней, предупредительно.
Сидел он очевидно по тем же причинам, что и Рябушинская. Как-то однажды, когда мы разговорились, и я упомянула, что моё детство прошло в Херсоне, он оживился и спросил:
— А вы знаете, как называлась Суворовская улица (это была главная улица Херсона) — до того, как она стала «Суворовской»?
Я не знала. — Эгизовской — сказал он. И повторил печально:
— Вот именно, — Эгизовской…
Я не стала расспрашивать, и так было понятно. Очевидно Эгизы были уважаемыми, и очень известными людьми в старом Херсоне.
…Ученый Эгиз умер у меня на руках в 42-м году, когда я была зэ-ка — медсестрой в Центральной больнице Усольлага.
Пока он лежал в больнице, а лежал он долго — у него была дистрофия, и он постепенно угасал — он получал письма, не помню откуда — кажется откуда-то из эвакуации.
И как же он им радовался! Я любила приносить ему письма в палату (их нам выдавали в конторе больницы на всех больных сразу).
— Письмо?! — Глаза его сияли, он приподнимался на локтях, а лицо его прямо светилось и казалось совсем молодым. Он никогда не рассказывал о содержании писем, и только раз сказал, что это от его самого близкого друга.
Только после его смерти я узнала из письма, пришедшего слишком поздно и потому оставшегося не востребованным, что другом этим была женщина.
И в этом единственном письме, которое я прочла, было столько тепла, поэзии, нежных воспоминаний, что без слёз его нельзя было и читать: такую любовь пронесла эта женщина к этому маленькому, ставшему к концу совсем сухоньким старичку…
Мы с моей тогдашней подругой, Катей Оболенской, написали этой милой и, по-видимому, очень интеллигентной женщине — рассказали ей о его смерти и о той радости, которую приносили ему её письма…
Вот так воспоминания, цепляясь одно за другое, уводят от основного рассказа.
…В противоположность молчаливому, и всегда державшемуся немного обособленно Эгизу, другой человек из нашей «кают-компании» — инженер-механик М. А. Соловов — был необыкновенно общителен, подвижен и шумен. До революции был он, ни много, ни мало — старшим механиком на «Штандарте» — яхте Его величества, последнего Российского императора Николая II. Рассказывал он, что на яхте он завтракал за одним столом с царём, цесаревичем Алексеем и императрицей Александрой Фёдоровной.