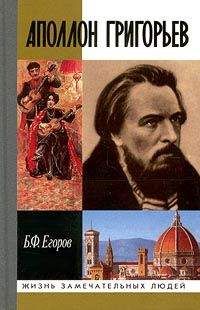«Последний романтик» — это еще полбеды. Конечно, «последний» — значит, подведение черты, стояние у черты перед концом большого периода. Но слово «романтик» означало возвышенное, идеальное, творческое, интенсивное. Почти все произведения Григорьева после «Москвитянина» овеяны ощущениями «последнего романтика». А вершинные творения, вехи на пути автора включены им в своеобразную тетралогию. В 1862 году он мимолетно, «разово» вернулся в «Русский мир» и опубликовал там поэму «Вверх по Волге» с любопытным подзаголовком «Дневник» без начала и без конца. (Из «Одиссеи» о последнем романтике.)». А внизу было примечание, где сообщалось, что автор напечатал три предшествующие части этой «Одиссеи» раньше: цикл «Борьба», рассказ в прозе «Великий трагик» и поэма «Venezia la bella».
Вероятно, Григорьев предполагал создать и другие части «Одиссеи». П.В. Быков, познакомившийся с нашим поэтом в начале 1860-х годов, видел у него листок с поэмой «Искушение последнего романтика» и запомнил первые строки:
Надорванный и непостижный век,
Безгранным хаосом рожденный,
Тобой несчастный создан человек,
В своем величьи убежденный…
Потом, якобы по нечаянности, листки с поэмой попали в горящую печку. Такое для Григорьева вполне допустимо. Но главное — в последние годы жизни он постоянно думал о продолжении «Одиссеи о последнем романтике». А ощущение «последнего», конечно, тесно сопрягалось с понятиями «лишний человек» и «ненужный человек». Как писал он Страхову 23 сентября 1861 года: «…струя моего веяния отшедшая, отзвучавшая — и проклятие лежит на всем, что я ни делал».
И вот это понимание отрешенности, ненужности, чувство «конца» и стало одним из стимулов к созданию мемуаров. Григорьев, конечно, сознательно оглядывался на своих знаменитых предшественников — больше всего — на Гейне («Путевые картины») и, особенно, на Герцена с его монументальной серией «Былое и думы». В последнем случае было даже и подспудное отталкивание: Герцен показывал становление радикала, фактически — революционера, а Григорьев — романтика. Но еще больше было следования. Наш мыслитель все больше увлекался Герценом в послемосквитянинский период, и не только относительно переоценки романа «Кто виноват?». Страстные статьи Герцена против крепостного рабства, против бюрократической правящей верхушки России, против любого мракобесия, а с другой стороны, восторженное отношение к декабристам, симпатия к мученикам николаевского режима, преклонение перед русским народом, не говоря уже о блистательном художественном таланте, захватывали Григорьева, и это нашло отражение в его прямых высказываниях. Он писал к И.С. Тургеневу 11 мая 1858 года: «Скажите Александру Ивановичу (Герцену. — Б. Е.), что сколько ни противны моей душе его цинические отношения к вере и бессмертию души, но что я перед ним как перед гражданином благоговею, что у меня образовалась к нему какая-то страстная привязанность. Какая благородная, святая книга «14 декабря»!.. Как тут все право, честно , достойно, взято в меру». Подобные отзывы о Герцене содержатся и в тексте «Скитальчеств»: «Один великий писатель в своих воспоминаниях сказал уже доброе слово в пользу так называемой дворни и отношений к ней, описывая свой детский возраст».
Есть сведения, что Григорьев приобретал продукцию лондонской типографии Герцена, не только пребывая за рубежом, но и в России: агент III отделения доносил начальству 30 января 1861 года, что критик «иногда дает читать знакомым запрещенные книги, печатаемые за границею». Курьезно, что царская охранка получила анонимный донос на Григорьева – якобы он организует политический заговор! Поэтому за ним и была установлена тайная слежка. Такие нелепости были типичны. Граф Закревский даже славянофилов, даже Погодина и Шевырева подозревал в связях с революционерами. Лишь после того, как несколько агентов в течение месяца следили за каждым шагом и словом Григорьева и убедились в абсурдности доноса (самая большая вина подозреваемого выражалась в чтении нелегальных книг — но тогда все их читали!), надзор был снят.
Сплав субъективно-личностного и «внешнего», характерный для воспоминаний нашего автора, очень похож на метод «Былого и дум». Лиричен, субъективен Григорьев и сам по себе, здесь ему не нужно заимствований, а вот историзма ему раньше не хватало, здесь Герцен мог повлиять. Но и вообще эпоха шестидесятых годов влияла: и усилением научного историзма, и, еще более, духом раскованности, свободных исканий истины, политического задора.
Объективные или относительно объективные воспоминания Григорьева в разных пропорциях и в разных ракурсах сливаются с лично-интимными. Начинает он с тесного сплава личных впечатлений и объективного духа исторических событий: «…я вполне сын своей эпохи и мои литературные признания могут иметь некоторый литературный интерес». Чуть дальше историческое даже как бы приподымается над личным: «Я намерен писать не автобиографию, но историю своих впечатлений; беру себя как объекта, как лицо совершенно постороннее, смотрю на себя как на одного из сынов известной эпохи, и, стало быть, только то, что характеризует эпоху вообще, должно войти в мои воспоминания; мое же личное войдет только в той степени, в какой оно характеризует эпоху».
И затем в самом деле относительно объективно, хотя и с отдельными краткими разливами субъективного чувства, Григорьев описывает свое детство в Москве, в Замоскворечье 20—30-х годов. Так повествование довольно спокойно движется, пока не происходит взрыв: очевидно, сказалось и умственно-моральное перенапряжение из-за мировоззренческих кризисов и житейских неурядиц, и некоторое неудобство от добровольно надетых на себя объективно-исторических «пут». Григорьев пишет главу «Нечто весьма скандальное о веяниях вообще», резко личностную, субъективную, полемически заостренную против «прозаического» духа 60-х годов: автор даже считал эту главу «скандальной и неприличной, эксцентрической», хотя ничего подобного в ней нет, если не считать умеренно бранных выражений… Но, вылив на страницы воспоминаний свои романтические страсти, Григорьев как бы успокоился, и следующие до конца главы наиболее объективны, они почти лишены описания событий личной жизни, а повествуют главным образом о литературных произведениях 30-х годов, которые оказали наиболее сильное идеологическое и эстетическое воздействие на подрастающее поколение. В этой объективированности, при всех романтических ореолах, тоже чувствуется влияние и эпохи вообще и «Былого и дум» в частности.