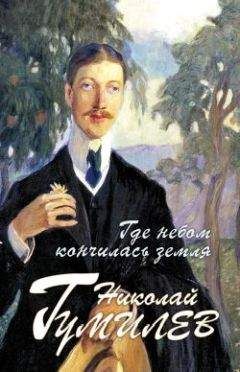А ведь шуточные вещицы Гумилеву вполне удавались, но он оставлял их в стороне, относил по разделу «стихов на случай». Таковы и многие стихи, адресованные Ларисе Рейснер.
Что я прочел? Вам скучно, Лери,
И под столом лежит Сократ,
Томитесь Вы по древней вере?
– Какой отличный маскарад!
Вот я в моей каморке тесной
Над Вашим радуюсь письмом,
Как шапка Фауста прелестна
Над милым девичьим лицом.
Я был у Вас, совсем влюбленный,
Ушел, сжимаясь от тоски,
Ужасней шашки занесенной
Жест отстраняющей руки.
Но сохранил воспоминанье
О дивных и тревожных днях,
Мое пугливое мечтанье
О Ваших сладостных глазах.
Ужель опять я их увижу,
Замру от боли и любви
И к ним, сияющим, приближу
Татарские глаза мои?!
И вновь начнутся наши встречи,
Блужданья ночью наугад,
И наши озорные речи,
И Острова, и Летний Сад?!
Но ах, могу ль я быть не хмурым,
Могу ль сомненья подавить?
Ведь меланхолия амуром
Хорошим вряд ли может быть.
И, верно, день застал, серея,
Сократа снова на столе,
Зато «Эмали и камеи»
С «Колчаном» в самой пыльной мгле.
Так Вы, похожая на кошку,
Ночному молвили: «Прощай!»
И мчит Вас в Психоневроложку,
Гудя и прыгая, трамвай.
23 сент. 1916
Зато обычные гумилевские письма, то есть написанные прозой, напротив – лиричны: «Больше двух недель как я уехал, а от Вас ни одного письма. Не ленитесь и не забывайте меня так скоро, я этого не заслужил. Я часто скачу по полям, крича навстречу ветру Ваше имя. Снитесь Вы мне почти каждую ночь. И скоро я начинаю писать новую пьесу, причем, если Вы не узнаете в героине себя, я навек брошу литературную деятельность.
О своей жизни я писал Вам в предыдущем письме. Перемен никаких и, кажется, так пройдет зима. Что же? У меня хорошая комната, денщик – профессиональный повар. Как это у Бунина?
Вот камин затоплю, буду пить,
Хорошо бы собаку купить.
Кроме шуток, пишите мне. У меня «Столп и утверждение истины», долгие часы одиночества, предчувствие надвигающейся творческой грозы. Все это пьянит как вино и склоняет к надменности соллепсизма. А это так не акмеистично. Мне непременно нужно ощущать другое существованье – яркое и прекрасное. А что Вы прекрасны, в этом нет сомненья. Моя любовь только освободила меня от, увы, столь частой при нашем образе жизни слепоты.
Здесь тихо и хорошо. По-осеннему пустые поля и кое-где уже покрасневшие от мороза прутья. Знаете ли Вы эти красные зимние прутья? Для меня они олицетворенье всего самого сокровенного в природе. Трава, листья, снег – это только одежды, за которыми природа скрывает себя от нас. И только в такие дни поздней осени, когда ветер и дождь и грязь, когда она верит, что никто не заменит ее, она чуть приоткрывает концы своих пальцев, вот эти красные прутья. И я, новый Актеон, смотрю на них с ненасытным томлением. Лера, правда же этот путь естественной истории бесконечно более правилен, чем путь естественной психоневрологии. У Вас красивые, ясные, честные глаза, но Вы слепая; прекрасные, юные, резвые ноги и нет крыльев; сильный и изящный ум, но с каким-то странным прорывом посередине. Вы – Дафна, превращенная в лавр, принцесса, превращенная в статую. Но ничего! Я знаю, что на Мадагаскаре все изменится. И я уже чувствую, как в какой-нибудь теплый вечер, вечер гудящих жуков и загорающихся звезд, где-нибудь у источника в чаще красных и палисандровых деревьев, Вы мне расскажете такие чудесные вещи, о которых я только смутно догадывался в мои лучшие минуты».
Письма ответные – трезвы, прозаичны, но это их только красит. Характер того, кто писал письмо, отразился тут в полной мере: «Если по Каменному дойти до самого моста, до барок и большого городового, который там зевает, то слева будет удивительная игрушечная часовня. И даже не часовня, а две каменных ладони, сложенных вместе, со стеклянными, чудесными просветами. И там не один св. Николай, а целых три. Один складной, и два сами по себе. И монах сам не знает, который влиятельнее. Поэтому свечки ставятся всем, уж заодно.
Милый Гафиз, если у Вас повар, то это уже очень хорошо, но мне трудно Вас забывать. Закопаешь все, по порядку, так что станет ровное место, и вдруг какой-нибудь пустяк, ну, мои старые духи, или что-нибудь Ваше – и начинается все сначала, и в историческом порядке.
Завтра вечер поэтов в университете, будут все Юркуны, которые меня не любят, много глупых студентов и профессора, вышедшие из линии обстрела. Вас не будет.
Милый Гафиз. Сейчас часов семь, через полчаса я могу быть на Литейном, в такой сырой, трудный, долгий день. Ну вот и довольно».
Несмотря на то, что переписка длилась, отношения Гумилева и Ларисы Рейснер постепенно менялись. Чувствовалось медленное, однако сильное охлаждение. Мне кажется, причины тому более чем серьезные. Гумилев вел себя по отношению к даме непозволительно. Разве можно назначать порядочной девушке встречу в доме свиданий, как делал это он? И ведь Лариса Рейснер приходила, потому что любила его. Любовь ее, сильная до самозабвения, перешла затем в такую же ненависть. С гумилевскими чувствами проще – он не любил.
Рейснер впоследствии, когда была у нее возможность, немало сделала для близких Гумилева. В голодном 1920 году принесла продукты А. Ахматовой, устроила в больницу тогдашнего ее мужа В. Шилейко. Предложила даже забрать к себе Леву, сына Гумилева и А. Ахматовой, и получила, само собой разумеется, отказ.
Я думаю, отношения между людьми не бывают равными, можно было и не любить, как делал это Гумилев, но вряд ли стоило лгать, как делал это он. И о своих чувствах, и о том, что пьеса «Гондла» написана по «заказу» Ларисы Рейснер, что героиня пьесы напоминает ее. Готовую пьесу читал он знакомым, еще до знакомства со своей Лери.
Но так уж бывает с поэтами, за стихи им прощают любые провинности.
Лучшая музыка в мире – нема!
Дерево, жилы ли бычьи
Выразить молнийный трепет ума,
Сердца причуды девичьи?
Краски и бледны и тусклы! Устал
Я от затей их бессчетных,
Ярче мой дух, чем трава иль металл,
Тело подводных животных.
Только любовь мне осталась, струной
Ангельской арфы взывая,
Душу пронзая, как тонкой иглой,
Синими светами рая.
Ты мне осталась одна. Наяву
Видевши солнце ночное,
Лишь для тебя на земле я живу,
Делаю дело земное.
Да! Ты в моей беспокойной судьбе —
Иерусалим пилигримов.
Надо бы мне говорить о тебе
На языке серафимов.
Стихотворение это датировано 23 февраля 1917 года.
Итак, памятью о романе остались стихи Гумилева и осталась пьеса Вс. Вишневского «Оптимистическая трагедия», написанная в 1933 году, когда не было в живых ни Гумилева, ни Ларисы Рейснер. В пьесе этой звучат гумилевские стихи и названо имя автора стихов.