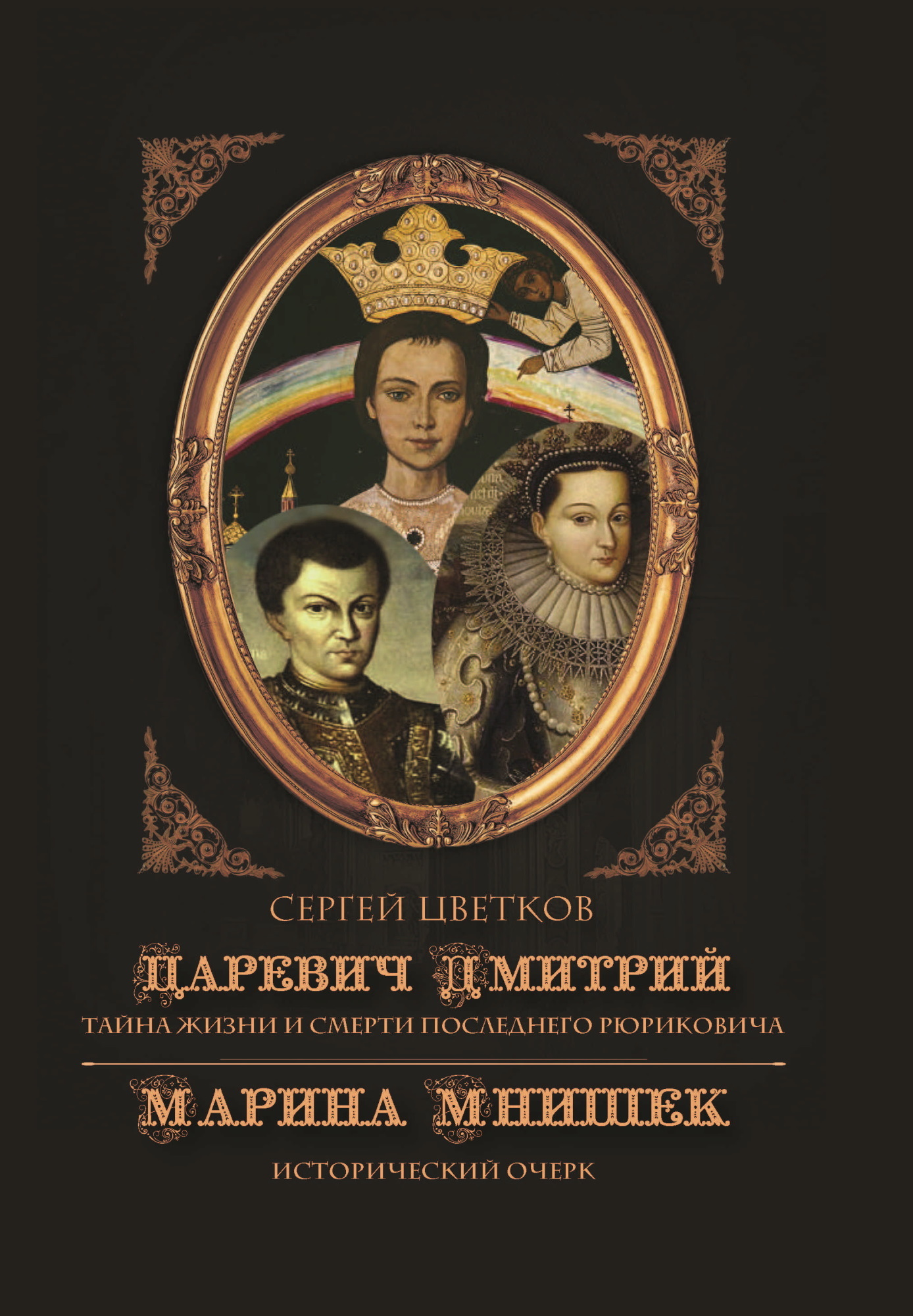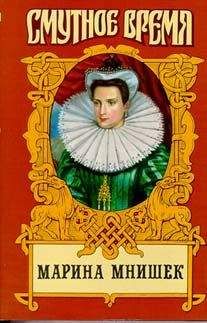умирать. А что из этого впредь может выйти, думные бояре сами легко могут рассудить.
Нащокин передал эти слова Шуйскому и тот поспешил в Белый город, где, как ему сообщили, москвичи бились с Вишневецкими.
Действительно, там происходило настоящее сражение. Князь Константин Вишневецкий стоял на дворе Стефана, господарчика молдавского, располагавшегося возле стены Белого города. Когда поднялась тревога, он с 400 конных латников попытался пробиться в Кремль, чтобы помочь царю и Мнишку. Однако ему пришлось возвратиться назад, так как все ворота Белого города были закрыты и охранялись стрельцами, а улицы были завалены бревнами. Преследуя поляков, москвичи ворвались на двор и овладели подсобными помещениями, но были остановлены ружейным огнем из господского дома. Поляки вели стрельбу очень умело – появляясь и исчезая в окнах. Они даже забавлялись, выбрасывая из окон деньги, дорогие платья и золотые вещи и стреляя по смельчакам, пытавшимся подобрать их. Кроме того, раза три они делали вид, будто сдаются и затем внезапным залпом клали по нескольку десятков москвичей, устремлявшихся на крыльцо. Горожане прикатили пушку, однако за неимением пушкаря навели ее слишком низко и первым выстрелом повалили своих же товарищей. Тогда, бросив пушку, они залезли на ближайшую башню и стали осыпать оттуда господский дом стрелами и пулями. Полякам пришлось туго; толпа перед домом все прибывала.
Шуйский явился как раз вовремя. Въехав на двор, он не мог удержаться от слез, видя сотни тел москвичей, валявшихся вокруг дома, где засели Вишневецкие (поляки убили около 300 русских, сами потеряв при этом 17 или 19 человек). У крыльца князь бросил шапку вверх в знак того, что хочет говорить. Вишневецкий выглянул в окно. Шуйский предложил ему сдаться, пообещав сохранить жизнь всем полякам и подкрепил свои слова крестоцелованием. Князь Константин поверил ему и приказал своим людям сложить оружие; тем не менее Шуйскому пришлось лично сопровождать поляков до Кремля, чтобы оградить их от народной ярости.
Бояре взяли под свое покровительство и других знатных панов из свиты Мнишка и Марины – почти все они, за редким исключением, остались целы-невредимы. Меньше повезло простым шляхтичам. Москвичи без труда врывались в дома, где квартировалось 5–10 поляков, и убивали их без пощады, «как собак», по выражению очевидца. Наиболее отчаянная резня шла на Никитской улице в Белом городе. Здесь проживали шляхтичи из свиты Марины и польские жолнеры, телохранители Дмитрия. Им не дали ни сойтись вместе, ни толком разобраться, что происходит. Заговорщики окружали их дома и кричали им:
– Великий государь приказал взять у вас оружие!
Многие поляки поддавались на эту уловку и выходили безоружные к толпе; народ тут же набрасывался на них, рубил, колол, вспарывал им животы, отрубал руки и ноги, носы и уши, выкалывал глаза и глумился над обезображенными трупами, таская их на веревке по улицам и придавая мертвым телам непристойные положения.
Тех, кто пытался сопротивляться, ждала та же участь, но они по крайней мере погибали достойно, предварительно положив на месте нескольких своих убийц.
Несколько часов на Никитской улице не смолкали крики:
– Бей, режь Литву! Перенимай, не допускай до Кремля! Они хотели царя и бояр извести!
Резня в городе продолжалась почти до полудня. Иностранные очевидцы, оставившие записки о событиях этого дня, считают, что москвичи убили от 1702 до 2135 поляков. Убитых русских никто не считал.
Среди тех, кому удалось спастись, были иезуиты, Савицкий и Чиржовский. Савицкого укрыли в своем доме литовские купцы, из которых один был католик, а остальные православные. Толпа требовала его выдачи, но купцы при помощи денег уладили дело. Наутро Гонсевский отвел иезуита в Кремль. Москвичи провожали Савицкого мрачными взглядами и спрашивали у охраны:
– Кто он?
Им отвечали, что это польский православный священник и таким образом благополучно довели его до безопасного места.
О. Николай Чиржовский рано утром отправился к польским жолнерам служить обедню. Когда зазвонил набат, в этот дом набилось еще около 200 поляков, многие из которых были православные. Чтобы избежать резни, Чиржовский посоветовал всем взять православные образа и выйти к толпе, ломившейся в запертую дверь. Эта хитрость сработала. Увидев иконы русского письма, народ опустил оружие и закричал тем, кто стоял сзади:
– Это наши! Это истинные христиане!
Некоторые даже подходили и прикладывались к образам. Всем полякам, в том числе и иезуиту, позволили спокойно выйти из дома и отправиться восвояси. Они также укрылись в Кремле.
Не все москвичи поддержали погромы. Были и такие, кто оказывал помощь полякам. Так, Ян Мнишек, брат сандомирского воеводы, спасся благодаря хозяину того дома, в котором он проживал.
Обезображенные тела поляков лежали на улицах весь день, утопая в лужах крови. Пьяные толпы бродили по городу, попирая трупы ногами и горланя веселые песни; другие грабили польские дворы и заодно дворы немецких купцов и ювелиров. Со всех сторон неслась отвратительная похвальба пьяного простонародья:
– Нет на свете сильнее и грознее московского народа! Целый свет нас не одолеет! Нашему народу счета нет! Теперь пусть все перед нами молчат, кланяются нам, в ногах перед нами валяются!
Ограбленные немцы, слыша это, шептали сквозь зубы:
– Да, вы храбры, когда вас сотня идет на пять человек: тогда вы совершаете великие дела и получаете большую честь, особенно, когда ваши неприятели лежат в постели в теплой комнате!
Ночью Москва затихла; казалось, в городе не осталось ни одной живой души. Пьяные погромщики спали мертвецким сном, многие из них валялись прямо на улицах, рядом с их жертвами; москвичи, не принимавшие участия в убийствах и грабежах, не высовывали носа на улицу, оцепенев от ужаса.
На другой день за город потянулись сотни телег, нагруженных телами убитых поляков – там их сваливали в общие ямы, без гробов и христианских обрядов, топили в болоте, а тех, кто лежал на берегу Москвы-реки, просто сталкивали в воду.
Оставшихся в живых собрали на Посольском дворе и составили список их имен и должностей. Слуг отдавали господам, а если господа были мертвы, отпускали их в Польшу, выдав кое-какие пожитки. Знатных панов задержали в Москве в качестве заложников при переговорах с Сигизмундом. Всего в Польшу было отпущено около 600 человек – пешком, на скудном содержании. Желая показать, что дума не потакает грабителям, бояре распорядились возвратить полякам награбленное, однако приставам удалось прикатить на Посольский двор лишь несколько карет, принадлежавших придворным дамам: их трудно было спрятать или пропить.
Марину отдали отцу. Ее содержали хорошо, но отобрали все драгоценности – как подаренные Дмитрием, так и ее личные. Марина не пала духом и с досадой отвечала близким на их причитания и жалобы:
– Избавьте меня от ваших утешений и малодушных слез. Признанная однажды за царицу этого государства, я никогда не перестану быть ею. И тот, кто бы захотел лишить меня короны, должен прежде лишить