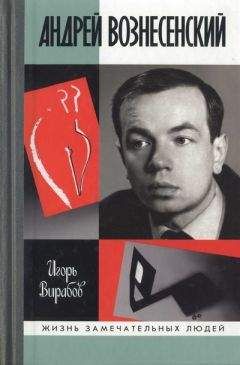Вознесенский признается лишь много лет спустя, что с ним происходило втайне от всех: «Меня мучили страшные приступы болезни, схожей с морской и взлетной… <…> В воспаленном мозгу проносилось какое-то видение Хрущева с поднятыми кулаками. Видение вопило: „Вон! Вон!“ — вздымало на меня кулаки, грозило изгнать. <…> Я боялся, что об этом узнают, мне было стыдно, что меня будут жалеть. Внезапно, без объяснения я уходил со сборищ, не дочитав, прерывал выступления. Я перестал есть. Многие мои поступки того времени объясняются боязнью этих приступов. Жизнь моя стала двойной — уверенность и заносчивость на людях и мучительные спазмы в одиночестве. Через пару лет недуг сам собой прекратился, оставшись лишь в спазмах стихотворных строк…»
Писатель Анатолий Приставкин вспоминал, как Андрей на какое-то время стал загнанно сторониться всех, даже стихи читать опасался. По стране между тем пошла кампания: искали и клеймили «своих Вознесенских». Худо пришлось тогда, помнил Андрей Андреевич, многим молодым поэтам: украинцу Ивану Драчу, казаху Олжасу Сулейменову… Новосибирский печатный орган обкома партии на первой странице опубликовал стихотворный отклик на отповедь Хрущева Вознесенскому. Называлось это «Есть такая партия у нас!». Первая строчка: «Эту речь я ждал давно с волненьем»… И дальше — про то, что «поэзии, народу верной, не нужны, как накипь или ржавь, формалистский бред хлыщей манерных, пошлость Вознесенских, Окуджав».
После хрущевского ора прошло большое писательское собрание и в Большом зале ЦДЛ. «Я сказал только несколько слов, две фразы, что не буду каяться и что я не забуду слов Хрущева. „Правда“ наврала потом, вписав „не забуду добрых слов Никиты Сергеевича“. Это еще более издевательски прозвучало — все знали, какой „добрый“ это был ор»… — вспоминал поэт.
Но тогда, на том же собрании, чуть было не встал вопрос об исключении Вознесенского из Союза писателей. Зал требовал. Собрание вел Георгий Марков, и он, по словам Зои Богуславской, при всей своей кряжистой консервативности, тянул время, пытаясь смягчить крикунов, которые требовали немедленно проголосовать. В последнюю минуту Вознесенский написал что-то вроде: «Прошу дать мне время осмыслить произошедшее». Записку передали Маркову, и тот призвал одобрить: пусть пока поосмысляет, не будем спешить… Да, но имя Зои в этой истории звучит уже совсем неспроста. Вознесенский хорошо это запомнил:
«В центре фойе, в кругу литклассиков, среди серых пиджаков врезалось в память весеннее салатно-зеленое платье Зои Богуславской, молодого критика и начинающего прозаика. Рядом что-то вещал Лебедев. Заметив меня, она развернулась и демонстративно на весь зал поздоровалась. Подошла. Заговорила. Номенклатура обиженно выделяла адреналин. В этом поступке, рискованном для ее судьбы, озонно проступила чистота и красота ее характера. Странно, вроде гонимым был я, но именно ее хотелось спасти, вытащить из круга вурдалаков».
Орет судилища орда.
Я прокаженным был, казалось.
И только женщина одна
подошла, не отказалась.
Живу меж темени и луж,
и черепов, как Верещагин.
И женщина, как желтый луч,
мою дорогу освещает.
«Тяжелей всего было видеть не торжествующие рожи врагов в зале, а ускользающие улыбки приятелей в фойе во время перерыва, прячущих глаза, будто не узнающих тебя». Не дождавшись окончания судилища, Вознесенский тогда выскочил из зала, как из энергетического поля злобы… Но Вознесенский не был бы Вознесенским, если бы, исполнясь пафоса и значительности, не умел вдруг подмигнуть и улыбнуться. В темноте за портьерой перед дверьми наткнулся на плачущую официантку Тамарку. «Я думал, что она скажет по-бабьи: „Я хотела, чтобы тебя простили, чтобы ты повинился, чтобы все обошлось, чтобы ты снова ходил к нам в ЦДЛ“. А она: „Я боялась, что ты не выдержишь и покаешься… Держись, Андрюша!“» Покаянные арии, согласно ритуалу, пришлось исполнить многим. Аксенов во искупление неведомых грехов опубликовал в газете «Правда» статью «Ответственность». Смущенно объяснял потом: дело в том, что журнал «Юность» затравили «как форпост всех этих битников и „пидарасов“». «Все вздыхали, поднимали глаза к потолку, разводили руками — надо спасать журнал!» Как? Принимая позу некоего раскаяния. Писали ту статью, по словам Аксенова, чуть не всей редакцией. Марлену Хуциеву по поводу «Заставы Ильича» не оставалось ничего, как клясться: «Приложу все силы, чтобы преодолеть ошибки картины». Эрнст Неизвестный подтверждал, что для художников «марксистско-ленинское мировоззрение — самое целостное из всех».
Атмосфера тех дней легко узнаваема в стихотворении «Сквозь строй», которое Вознесенский, отправленный вскоре на воинские сборы во Львов (о них мы еще расскажем), посвятит… Тарасу Шевченко. «Спиной он чувствует удары. / Правофланговый бьет удало. / Друзей усердных слышит глас: / „Прости, старик, не мы — так нас“…»
«Все ваши боли вымещая,
эпохой сплющенных калек,
люблю вас, люди, и прощаю.
Тебя я не прощаю, век.
Я верю — в будущем, потом…»
………………………………
Удар. В лицо сапог. Подъем.
Через полтора года, в октябре 1964-го, заклятые друзья по ЦК отправят самого Хрущева на пенсию. «Удар. В лицо сапог. Подъем». На пенсии он прочитает «Доктора Живаго» Бориса Пастернака и грустно скажет зятю Аджубею: вот дураки, чего не напечатали? Ведь «ничего бы не случилось…». Вознесенскому тоже передадут его сожаления о том, что так вышло.
Андрей мучился этим феноменом Хрущева: слишком горьким оказался перелом эпохи. В чем было дело? Система виновата? Память Хрущева о своем соучастии в кровавых расправах тяготила? «Черное затмение»? Льстецы и хитрецы переиграли? Как в одном человеке сочетались и добрые надежды 1960-х, и мощный замах преобразований, и тормоза старого мышления, и купецкое самодурство? Вот был монарх Николай I. Странный император, много сделал для своей державы. Но остался в истории своими отношениями с Пушкиным. То же Хрущев. Выпустил людей из концлагерей, вытащил народ из подвалов и коммуналок, но и закрыл десять тысяч церквей. И, увы, в историю войдет как человек, по чьему приказу травили Пастернака. «Бог и Россия ему этого не прощают», — напишет поэт.
Через год, в апреле 1964-го, Вознесенский отказался подписать редакционное поздравление «Юности» Хрущеву по случаю его 70-летия, который еще и помыслить не мог о своей отставке. «Это относилось к моему пониманию достоинства», — позже скажет поэт.
А если предположить, что действительно выгнали бы Вознесенского из страны? Неужто не шевельнулась у него мысль — ведь был уже за границей, и понравилось?! Или потом, позже: почему, даже если жизнь подталкивала, мысль о загранице Вознесенский отметал? «Потому что, — простодушно ответит он в жестоких 1990-х, как когда-то Хрущеву, — я не могу жить вне России, не могу. Понимаете, это тяжелый, серьезный вопрос, сейчас можно жить где угодно, и никто тебя не упрекнет. И ты сам себя не упрекнешь. Но тогда это был выбор, ты становился политическим эмигрантом. Это тяжелая судьба. Главное, здесь я могу писать, благодаря этой ауре, исходящей из нас. Поэтому я живу здесь».