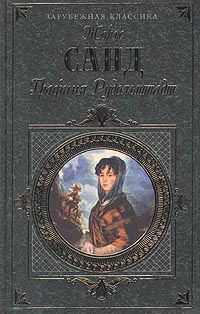Если ты не можешь уступить моим мольбам из любви, склонись на них хотя бы из честолюбия. Ты любишь свое искусство, люби его сильнее меня, это единственный соперник, с которым я готов мириться. И никогда еще честолюбие ни одной королевы не было удовлетворено так полно, как будет твое. Ни одна женщина – даже мадемуазель Марс – не имела таких ролей, какие я дам тебе в ближайшие три года…»
Влияние старости (о приближении которой свидетельствовала лишь седеющая шевелюра), странное сочетание отцовской нежности с любовным пылом, хрупкое здоровье молодой девушки объясняют этот умиленный стиль письма. «Жеронт при новой Изабелле», Дюма с удовольствием играл в семейную жизнь, приходил к ней стряпать обеды, водил ее как супругу в гости к друзьям, что, впрочем, отнюдь не мешало ему иметь в то же самое время еще десяток интрижек с молодыми дамами, более пылкими и доступными.
Сын метил гораздо выше. Успех «Дамы с камелиями» способствовал его престижу. Его светло-голубые глаза производили неотразимое впечатление на женщин. В те времена любой художник казался светским женщинам невероятно привлекательным и вместе с тем демонически страшным. Иногда они пытались привязать художника к себе, ничего ему не позволяя, как, например, поступила маркиза де Кастри с Бальзаком. Дюма-сын, тогда еще молодой годами и сердцем, смотрел на «знатных дам» с наивным восхищением. Его по-прежнему печалила и волновала судьба Мари Дюплесси.
«Заблудшие создания, которых я так хорошо знал, которые одним продавали наслаждение, а другим дарили его и которые готовили себе лишь верное бесчестье, неизбежный позор и маловероятное богатство, в глубине души вызывали у меня желание плакать, а не смеяться, и я начал задаваться вопросом, почему возможны подобные вещи».
Как-то после обеда у одной особы легкого поведения граф Ги де ля Тур дю Пэн сказал ему:
– Дружеское расположение к вам и мой возраст – я лет на пятнадцать старше вас – позволяют мне дать вам один совет… Мы только что отобедали у этой прелестной и остроумной девицы. У нее бывают самые разные люди, вы можете изучать тут нравы. Изучайте, но, когда вам исполнится двадцать пять лет, постарайтесь, чтобы вас больше не встречали в этом доме…
В 1849 году ему исполнилось двадцать пять лет, и он решил последовать этому совету. Любовницей его в ту пору была дама по фамилии Давен (или Дальвен), особа с весьма неблаговидным прошлым, однако он вращался в обществе если не в более нравственном, то во всяком случае более блестящем.
Русская аристократия представляла тогда в Париже нечто вроде неофициального посольства красавиц. Молодые женщины – Мария Калергис, ее родственница графиня Лидия Нессельроде, их подруга княгиня Надежда Нарышкина – собирали в своих салонах государственных деятелей, писателей и артистов. В России царь, мужья, семьи обязывали их соблюдать определенную осторожность. В Париже они вели себя, словно сорвались с цепи.
В 1850 году в доме Марии Калергис Дюма познакомился с Лидией Закревской, которая уже три года была замужем за графом Дмитрием Нессельроде. Эта очаровательная женщина, очень остроумная, очень богатая, не любила своего мужа, который был на семнадцать лет старше ее. Отец Дмитрия – канцлер граф Карл Нессельроде, министр иностранных дел, благодаря уму и ловкости сумел продержаться на своем посту при трех российских императорах. В январе 1847 года Дмитрия отозвали из Константинополя, где он служил секретарем посольства, чтобы женить его на юной наследнице с приданым в триста тысяч рублей, отец которой, граф Закревский, был генерал-губернатором Москвы и пользовался всеобщим уважением. Большой дипломат и многоопытный человек, Дмитрий считал, что ему легко удастся подчинить себе девочку-жену, которую два могущественных семейства бросили в его постель.
Но брак этот оказался весьма неудачным со всех точек зрения. Молодая графиня начала ездить на воды, лечить слабые нервы. Ее видели в Бадене, в Эмсе, в Спа, в Брайтоне и, наконец, в Париже, который стал для нее самым действенным и в то же время самым опасным из всех лекарств. Муж не смог увезти ее из этого города соблазнов и был вынужден отбыть в Россию один. Мария Калергис давно рассталась со своим мужем греком и отдала дочь на воспитание в католический монастырь, благодаря чему могла, не нарушая приличий, поселиться в доме N8 по улице Анжу. Она обещала Дмитрию неусыпно следить за Лидией. Вместе с Надеждой Нарышкиной они образовали ослепительное трио славянских красавиц. Лидия то и дело ездила из Парижа в Берлин, Дрезден, Санкт-Петербург, но тут же возвращалась обратно. Графиню Нессельроде тревожила семейная жизнь ее сына.
17 июня 1847 года:
«Дмитрий писал мне из Берлина всего один раз, – он, как всегда, не балует меня письмами. С тех пор я от него ничего не получала. Он очень меня беспокоит. Сможет ли он вести себя с достаточным тактом во время этого длительного пребывания вдвоем?.. Ведь их взгляды и понятия несхожи. Ему выпала нелегкая задача, а он полагал, что все будет очень просто. Он не учел, сколько понадобится терпения, чтобы удерживать в равновесии эту хорошенькую, но сумасбродную головку. Если он не будет смягчать свои отказы, если устанет доказывать и убеждать, это приведет к охлаждению, чего я весьма опасаюсь. Повторяю, их отношения очень беспокоят меня. Я пишу ему об этом, но это все равно, что бросать слова на ветер».
Прозорливостью, столь естественной у свекрови, не были обделены и золовки Лидии, но они относились к ней еще более враждебно. Елена Хрептович и Мария фон Зеебах, урожденные Нессельроде, ненавидели Марию Калергис и обвиняли ее (не без оснований) в том, что она играет по отношению к канцлеру, которого она называла не иначе, как «обожаемым дяденькой», ту же роль, что герцогиня Дино, другая заблудшая племянница, играла при престарелом Талейране. Мария Калергис, эта «снежная фея», слишком живо интересовалась поэтами и пианистами; кузины ее относились к ней подозрительно и предостерегали Дмитрия против ее пагубного влияния.
В феврале 1850 года Лидия, к великой радости могущественных семейств, родила сына Анатолия, которого звали Толли. Но Франция обладала неодолимой притягательной силой для прелестной и сумасбродной графини, и она вновь уехала в Париж. Она оказалась чудовищной мотовкой. Лишь на цветы для одного бала, данного ею в ее парижском особняке, она потратила восемьдесят тысяч франков. Она шила только у Пальмиры, каждое платье обходилось ей в полторы тысячи франков, и, отправляясь к портнихе, она заказывала всякий раз не меньше дюжины. Она приобрела превосходные жемчуга длиною в семь метров. К красному платью она носила убранство из рубинов (диадему, ожерелье, браслеты, серьги), к туалету из голубого бархата – убранство из сапфиров. Это, конечно, приводило к несметным долгам.