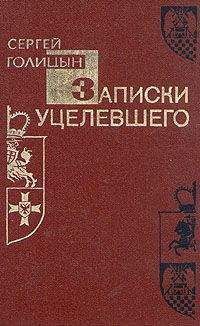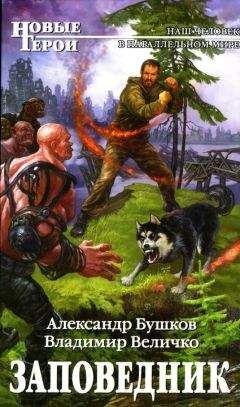— Не имеем права, — ответил Чернявый, а ему наверняка очень хотелось пить. Он сел писать протокол обыска.
Приближалась тяжкая минута расставания. Тут красноармеец, выходивший в прихожую покурить, вернулся и что-то шепнул Чернявому. Оба они прошли в прихожую, и Чернявый ахнул, увидев воздвигнутые друг на друга в три этажа ряды сундуков.
Мать показала на верхние сундуки и объяснила, что только эти принадлежат нам, а прочие оставлены на хранение нашими родственниками, уехавшими за границу. Напомню читателю, что сундуки, мебель и книги были переданы нам семьей двоюродного брата моей матери князя Евгения Николаевича Трубецкого, когда их высылали в 1922 году за границу.
Мать сказала Чернявому: мы понятия не имеем, что в этих сундуках хранится. Он потребовал от них ключи и, приказав красноармейцам снять один из сундуков верхнего ряда, открыл крышку стоявшего в среднем ряду, откинул тряпку, прикрывавшую вещи. И все ужаснулись, увидев, чтo обнаружилось под тряпкой.
— Клянусь вам, мы не знали, что там хранится! — простонала моя мать.
Лежали две большие фотографии в затейливых, черного дерева с инкрустациями, рамках, портреты царя Николая Второго в мундире со многими орденами и царицы Александры Федоровны в пышном белом платье.
Мать опять повторила, что мы не знали о содержании сундуков. Чернявый усмехнулся, молча положил страшную улику в кучу на столе и добавил строчку в протоколе обыска.
Прибыла автомашина "черный ворон" — крытый грузовик с маленькими зарешеченными окошками. Мой отец и мой брат с узелками смены белья (каждый с ложкой, кружкой и миской) под конвоем и в сопровождении всех нас спустились — по лестнице вниз и по ступенькам через заднюю дверку влезли сзади в "черный ворон"; там уже сидело несколько арестованных…
Мы — оставшиеся — переживали арест близких очень тяжело. Я пошел в школу и никому из друзей не сказал о своем горе. Не я один был в таком же положении. Андрей Киселев под честное слово мне шепнул, что у Алеши Нестерова арестован отец. На Алешу было страшно глядеть: он весь почернел, глаза его блуждали.
Да, да, уважаемые искусствоведы, изучающие творчество выдающегося русского художника Михаила Васильевича Нестерова, я сообщаю неизвестный вам факт из его биографии. Кто-то когда-то спрашивал его дочь Наталью, и она отрицала насилие над ее отцом. Говорят, что архивы ГПУ в панике октября 1941 года были сожжены. Но поверьте моему сообщению, оно соответствует истине. Через несколько дней благодаря хлопотам друга Нестерова — уважаемого властями архитектора Щусева — он был освобожден.
Моя мать бросилась к Смидовичу. Тот принял в судьбе моего отца и моего брата горячее участие, обещал выхлопотать, если только…
Когда сестра Лина рассказала Пешковой об аресте ее отца, та воскликнула:
— Как, такой милый человек, кого я давным-давно знаю, который столько раз ко мне приходил хлопотать за других, и сам арестован вместе с сыном!
Она обещала специально о них поговорить с Ягодой. И добавила: "Если только…"
При следующем свидания матери со Смидовичем и Лины с Пешковой выяснилось, что все бы окончилось благополучно, оба на допросах производят вполне благожелательное впечатление на следователя, и если бы не злополучные царские портреты… "Трудно поверить, — утверждал следователь, — что о них не знали, наоборот, ждали, когда их можно будет снова повесить на стену…"
Как бы там следователь ни думал, а на Ягоду и его присных был организован такой нажим, что мой отец вернулся через две недели, а брат Владимир на несколько дней позже.
В день освобождения отца на кровати моей матери окотилась кошка. Ну как не верить приметам, хорошим и дурным!
И отец и брат Владимир нам рассказывали, что сидели на Лубянке в соседних камерах, что следователь был вежлив, с заметным интересом расспрашивал отца о его прежней деятельности, о его взглядах. Отец, а за ним и Владимир объясняли, почему они не являются монархистами; отец сказал, что одобряет денежную реформу — введение червонца, а также политику правительства в деревве, когда усердным крестьянам помогали поднимать их хозяйства. О царских портретах оба заключенных клятвенно уверяли, что ничего о них не знают. Владимира следователь предупредил, чтобы поменьше общался с иностранцами; с мистером Уитером, поскольку он стал родственником, видеться не возбранялось.
В тот год брат с женой и с сестрой Соней, к великой моей зависти, зачастили ходить в гости к норвежскому послу мистеру Урби, чья резиденция была в двух шагах от нас в Мертвом переулке. И Урби — весьма почтенного вида пожилой барин — бывал у нас со своей супругой. С ними тоже разрешалось общаться. А друг мистера Уитера — мистер Барбери — лютый враг Советской власти и опасный шпион, нужно держаться от него подальше.
Что поразило и отца и Владимира, так это широкая осведомленность о наших родных и знакомых. Оба они поняли, что только от Алексея Бобринского получало ГПУ столь подробные сведения.
Вернувшись из тюрьмы, отец продолжал ходить на работу в свое учреждение на Покровке, которое вместо Москуста стало теперь именоваться "Акционерное общество Комбинат". Директор комбината Колегаев вызвал отца в свой кабинет, долго его расспрашивал о допросах и сказал, что разговаривал о нем с самим Ягодой.
— Как же это вы хранили царские портреты? Ай-яй-яй! — упрекнул он отца и не очень поверил, что отец о них ничего не знал…
С запозданием мать поехала в Сергиев посад и вновь сняла дачу в Глинкове. Но у священника второй дом отобрали под клуб, и поэтому мы сняли переднюю половину другой избы, в которой с нами вместе поселились наши двоюродные — Елена и Оля Голицыны, а также подруга сестры Маши Ляля Ильинская, у которой отец сидел. Все мы бегали босиком, как тогда было принято. Владимир и Елена с малышкой Еленкой поселились в просторном, только что отстроенном нарядном доме. Дедушка с бабушкой поселились в Сергиевом посаде рядом с Трубецкими.
Глинково, как и вся тогдашняя крестьянская Россия, процветало. Дважды в день, поднимая пыль, мимо нашей избы проходило многочисленное стадо коров и овец. Пастух мелодично играл на дудочке, подпаски бегали, щелкая кнутами. В разных концах села слышался перезвон топоров — это рубились новые избы с резными крылечками и с наличниками вокруг окон. С вечера и до рассвета по сельской улице ходили девчата в сопровождении парней и пели одну-единственную песню "Хаз-булат удалой".
После Петрова дня началась страдная пора — сперва покос, потом жатва. Работали все от малого до старого, не считаясь с усталостью, от восхода и до заката. Наверное, никогда с тех лет не видела наша страна такого усердия к труду на земле. Каждый сознавал, что день летний год кормит. А жали серпами, вязали снопы вручную и складывали их шалашиками, молотили цепами.