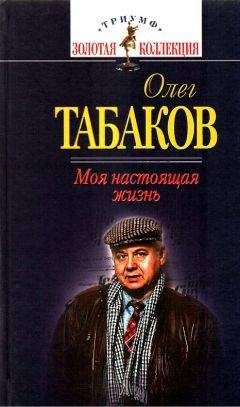Уже тогда мне совершенно очевидны были необъективность и несправедливость отношения министерств, разнообразных комитетов по кино и премиям, а также многих моих коллег к Никите Михалкову. Как же можно было додуматься до того, что «Неоконченной пьесе…» не была дана ни одна государственная награда! Как сильно надо было вызлобиться, позавидовать действительным, настоящим успехам режиссера Михалкова, чтобы не отметить его за эту блестящую кинематографическую работу, где было столько поразительных открытий, столько ярчайших характеров! Я уже не говорю об Александре Калягине, о Николае Пастухове. А как можно было пройти мимо Юры Богатырева? Понимаю, что вопрос риторический.
В следующей картине Никиты Михалкова — «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» (опять-таки не отмеченной соотечественниками) мне пришлось работать со многими замечательными артистами, одним из которых был Андрей Алексеевич Попов.
Михалков пригласил его на роль Захара, слуги Ильи Ильича, — того самого, который, по выражению Ленина, «вместе с другими тремястами Захарами» и обеспечивал жизненный уровень Обломова.
Отцом Андрея Алексеевича Попова был Алексей Дмитриевич Попов, один из ближайших учеников и последователей К. С. Станиславского. Сам Андрей Алексеевич десять лет подряд возглавлял театр Советской Армии, а затем стал актером МХАТа. В театре Советской Армии сыграл множество главных ролей, начиная от Петруччо и заканчивая Хлестаковым. Самой заметной из его работ во МХАТе стала роль Лебедева в «Иванове».
В пору своего недолгого руководства театром им. К. С. Станиславского Попов взял под крыло трех своих учеников — Анатолия Васильева, Бориса Морозова, Иосифа Райхельгауза — и дал им «зеленую дорогу», в результате чего родились их прекрасные дебютные спектакли. Андрей Алексеевич не был честолюбивым человеком. Он пригласил молодых режиссеров только по одной причине — дать им шанс состояться. На подобный поступок — бескорыстно и неревниво подарить возможность жизни следующему за тобой поколению — не способно абсолютное большинство моих коллег. Может быть, Попов этим и запал мне в душу.
Да, российские интеллигенты существовали и тогда, когда всех их, казалось, уже окончательно вытравили — либо вырезали, либо свели на нет, либо вынудили уехать. Их уничтожали целенаправленно, как вид, способный сопротивляться идиотизации и стереотипизации человеческого рода. А они все равно жили и трудились, оставляя за собой свет и мирру. Андрей Алексеевич был прекрасен, умен, талантлив, добр и независим вопреки всему.
Однажды мы вместе с Никитой Михалковым пришли к нему домой и увидели стоявший на почетном месте коротковолновый приемник, густо покрывшийся пылью. Абсолютно чистой оказалась только кнопка «Голоса Америки».
Съемки «Обломова» были веселыми и радостными. Бесконечное число шуток, анекдотов, проводимых вместе часов за обеденным или «ужинным» столом… Легко получались находки в кадре — вроде того отчаянного движения в сцене, когда барин спит, а Захар нечаянно роняет то одну, то другую вещь, а потом, рассвирепев, швыряет в окно и все остальное. Или первая наша с ним сцена, где он странным образом «клекочет», прыгает, неуклюже шаманит, чтобы разбудить почивающего беспробудным сном Илью Ильича.
Однажды в городе Сент-Луис я был свидетелем одного незабываемого зрелища, когда старые, седые, толстенные негры-джазисты играли свою гениальную музыку для самих себя — лабали настоящий, неразбавленный джаз с берегов Миссисипи. Джем-сейшен шел непрерывным полотном, негры сменяли друг друга, и каждый новый солист выдавал такие убийственные импровизации, такие виртуозные свинги, что следующие за ним музыканты заводились, наэлектризовывались, возбуждались и разворачивали пульсирующую джазовую ткань совершенно по-новому, все выше и выше поднимаясь в космос…
Что-то похожее я испытывал, глядя на инспирирующего мое вдохновение Андрея Алексеевича. Не знаю, действовал ли на него подобным образом я, но о том, что он «доставал» меня, могу свидетельствовать со всей большевистской прямотой.
Вторым моим партнером по «Обломову» был Юра Богатырев. Трудно даже назвать другого актера, который смог бы сыграть Штольца хотя бы так же, как он. Строчка стихотворения Ахматовой, обращенная к Пастернаку «Он, сам себя сравнивший с конским глазом…» — кажется мне весьма уместной для оценки Юриной работы в фильме «Несколько дней из жизни И. И. Обломова».
Богатырев был одним из молодых артистов, принятых в «Современник» в эпоху моего «позорного шестилетия». Господь одарил его чрезвычайно разнообразными талантами, красивой фактурой, но Юра не успел сделать и двадцати процентов из того, что мог бы. Хотя замечательно играл и в театре, и в фильмах у Авербаха, Михалкова, Титова… Был одинаково убедителен и в характерных ролях, и в героических, и в «молодых».
Впервые я соприкоснулся с Юрой в работе, когда ему было лет двадцать пять. Причем не как с актером, а как с художником. Я начинал репетиции пьесы Вампилова «Прощание в июне», а оформление к этому внеплановому спектаклю делали Адабашьян и Богатырев. Важной деталью декорации, изображавшей двор жилого «хрущебного» дома, было белье, развешанное на веревках в несколько ярусов. Потом бельевые веревки поднимались вверх, и взгляду зрителей открывалась типовая игровая площадка, а затем и квартира Сарафанова. Удивительно емкое и многозначное оформление — до сих пор я не видел, чтобы его где-то использовали.
Юра вдохновенно и радостно писал портреты, раздаривая их направо и налево. Даже у меня, в моем кабинете на Чаплыгина, висят два очень смешных моих портрета авторства Богатырева. Один — с галстуком из американского флага, написанный после моей поездки в США, а на другом я запечатлен в роли Мальволио.
Юрино естество слагалось из переполнявшей его доброты, бескорыстия и абсолютно детской потребности любить. Его душевная беззащитность была несообразна с его могучим и тяжелым телом. Из-за свойственной ему «хронической» неприкаянности мне иногда казалось, что Юра живет совершенно один.
Во время съемочного периода «Обломова» он завел один странный обычай. Никита Михалков очень смешно цитировал разговоры по этому поводу:
— Что ты делал вчера, Юра?
— Да… Пил с шоферами…
Ну не от хорошей же жизни!
Когда уходят из жизни люди немолодые — относишься к этому как к неизбежному порядку. А вот когда уходят люди младше меня, я ощущаю в этом какую-то жуткую несправедливость в том, что их уже нет, а я продолжаю жить. И живу, вспоминая, что не сделал для них, или не успел сделать, или сделал, но мало…