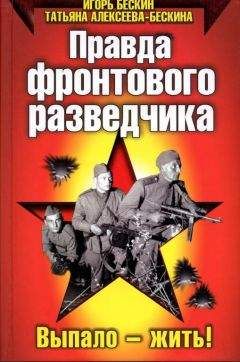А ангелы-хранители, наверно, существуют. Даже просто в твоем имени. Иконки с именем — обереги величиной с почтовую марку среди документов у нас лежали.
Но в дальний путь он ушел своей дорогой и не под отпевание. Это ему не было нужно.
Сегодня 22 июня, для многих поколений день трагический. Уже прошли десятилетия со Дня Победы, а раны души, памяти продолжают отдаваться болью. Еще живы поколения тех, которым память острым когтем вынимает что-то, что хотелось бы спрятать подальше… Но уже третье поколение от времен Войны, как показывают соц-опросы, становится индифферентным к этому дню — постепенно и не все, но память притупляется, замещается книгами, кинофильмами, не всегда правдивыми, не всегда удачными.
За окнами яркий солнечный день, в саду буйно цветет все — от обильной в этом году сирени, поражающей многоцветием кистей, до самых незначительных трав, идущих по разряду сорняков, но таких красивых. Особенно хороши лилии, ирисы. Птицы весело перекликаются в зелени, жужжат огромные меховые шмели. Но дата, число это занозой сидит в памяти.
То, что досталось мне, тогда девчонке, — малость. Но те, кто был чуть постарше, хлебнули по ноздри, Игорь, например. Чудо произошло, остался жив и прожил еще много, нечего грешить, счастливых десятилетий. Но теперь и он далеко… Яркое, сверкающее утро, а вспыхнувшие слезы бегут по щекам, перехватывают горло. Он тут, рядом, не мог уйти далеко. Я говорю с ним, советуюсь, просто молчим вместе, как бывало, глядя на пушистые легкие облака, любуясь изяществом цветов, слушая птиц — продолжаем жить рядом.
Оказывается, что я — из военного поколения. Как-то не задумывалась, понимание пришло не сразу. Разница в годах с Игорем всего-то около восьми лет плюс Фронт, как добавляла я, если речь заходила о возрасте, о наших годах. Оказывается, мне тоже выпало — жить. Уже упоминала выше, что за три дня до 22 июня мы с мамой выехали из Ленинграда в Архангельск, где работал в то время отец. Билеты на поезд в Крым — впервые к морю, взятые на 25 июня, не потребовались, 24-го числа уже стояли у поезда, увозившего папу на фронт. Две шпалы — батальонный комиссар, знает немецкий, а несколько дней назад был штатским, преподавателем вуза. События идут стремительно, страшно, непонятно. Мама рванулась в Ленинград, казавшийся более безопасным, — но туда уже не пустили. А там она бы точно отправила меня со школой в тех трагических поездах, что вывозили детей под Лугу. Вернулись оттуда после бомбежек далеко не все, да и вернулись в лапы блокады.
Архангельск был так далеко от надвигавшегося фронта. В нем было папино жилье в преподавательском общежитии, были даже некоторые теплые вещи — мы приезжали к нему на зимние каникулы, были дрова. У мамы нашлась работа в госпитале, у меня — школа. Город был деревянным — не только дома, заборы, но и тротуары, даже почва — многолетние слои опилок, корья, стружек. И уж если это загоралось!.. Пожары были моим детским ужасом.
Самолет круто ложится на крыло, стремительно приближается земля к иллюминатору, к самому лицу. Скоро посадка. Обычная командировка, 1984 год, и необычное путешествие — в страну моего военного детства, в город Архангельск. Быстро уплывают назад покрытые апрельским снегом перелески, равнины болот или полей под снегом. А вот надвинулась огромная река. Она угадывается и подо льдом по крутым берегам. Посреди ее ледяного безбрежья широкая сероватая лента, битый лед! Ледокольная полынья! Северная Двина! Это ее просторы растворяются в дальнем голубом мареве над весенней розовато тающей снежной бесконечностью. Апрель — весна света. Полынья уплывает под крыло.
Много лет назад в 41 — м тоже была полынья через Двину. По хлипким мосткам над черной парящей водой ее пересекала дорога из города к железнодорожному вокзалу на левом берегу. Оттуда можно было доехать до ближайшей станции, обменять папино довоенное пальто или ботинки на картошку, а повезет — и на муку…
Под крылом, как струны, на солнце натянулись железнодорожные пути. Ого, как густо! А вот мелькнул краешек моста через Двину — на ту сторону, в город. Тогда его не было.
И как давно это было! И как это близко — военное детство! Детская память оставила все таким ярким, четким, до мелочей — рукой достать, потрогать, окликнуть!
Ловить головастиков в пруду, заросшем тиной, травами, — что может быть интереснее? Головастики — уже почти лягушата, с лапками, — в бутылке их можно рассмотреть. После чинных тротуаров Литейного проспекта, ленинградских девочек и мальчиков из школы на Кирочной так хорошо летом с архангельскими новыми приятелями. Можно забраться в самую заброшенную часть институтского городка. Двора, как в Ленинграде, — нет, а есть — простор. Сараи, заборы, канавы, а дальше страшноватые огромностью Мхи — болота без конца и края. А всего три дня назад Ленинград, вокзал, впереди лето, каникулы. И вот оно — жаркое лето, травы, как в джунглях, стрекозы, головастики… Что там кричит Вовка? Зовет? Голос у него какой-то… случилось что-то?
В длинном коридоре, куда выходит десятка два дверей и топки печек, где при желании можно кататься на детском велосипеде, толпятся люди, к чему-то прислушиваются, тихо переговариваются. Слова «Молотов», «война, «бомбили»… Что-то непонятное. А случилось страшное — война! Весь день — «взрослые» разговоры, куда детям «вход воспрещен». Ясно и то, что надо немедленно возвращаться в Ленинград. Мама взволнованно объясняет это отцу. Значит не будет моря, не будет Крыма…
Первая учебная тревога, осень 41-го. Ленинградскую девочку сирена врасплох не застала: в ленинградских школах еще с финской кампании все — от первого до последнего класса знали, что, как только звучит сигнал тревоги, надо уйти в подворотню или в парадное каменного дома. И без всякого испуга девочка вошла в кирпичное здание института, которое было по дороге к дому. Испуг, да еще какой, был у мамы — ребенок еще такой маленький, только что перешел в третий класс, это же еще детсад!
Отец на вокзале такой незнакомый, в жесткой шинели с вишневыми прямоугольничками на воротничке. Глаза его уже не здесь, где-то далеко. Несколько дней — и все помчалось как-то круто, тревожно, страшно. Самыми страшными потом стали слова «отступление», «войска оставили», «окружение». И пустые черные дырки железного почтового ящика на дверях. Бесполезно засовывать палец в дырки, авось письмо прислонилось к задней стенке и поэтому не светится в дырочках.
А у отца были и отступления, и окружения, и Смоленск, и Вязьма. В письмах, которые приходили так редко, он был телеграфно краток. А на случайном фото величиной со спичечный коробок — такой непохожиЙ. Иногда приходили открытки со смешными картинками — про глупых фрицев, про умных партизан. Шла зима 41-го. Однажды ко дню моего рождения пришла открытка, где были стихи и портрет партизанки Тани — Зои Космодемьянской. И это был наказ отца: тебе 1 О лет — и имя обязывает. Думай сама! Мама хранила все письма с фронта. Целую сумку от противогаза. Храню и я. До сих пор.