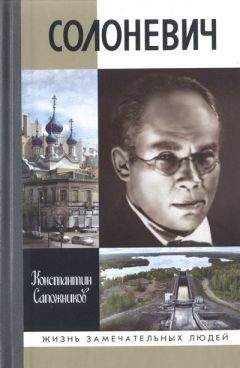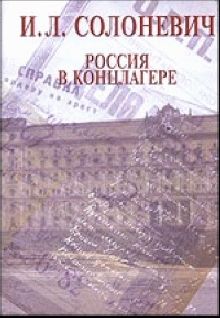Может быть, «торговать можно и с каннибалами»… Может быть, и можно… Но можно ли покупать у них человеческие черепа для подсвечников — я не знаю.
И можно ли покупать бревна, пропитанные потом, кровью и слезами рабов ОГПУ — я тоже не знаю. Велика гибкость современной человеческой морали! И все-таки, как радостно, когда не умолкают голоса, протестующие во имя гуманности против поддержки такой торговли не с каннибалами, а с палачами…
Я не только видел, но и на себе испытал всю бесчеловечность эксплуатации человеческого труда тех миллионов заключенных, которых советская власть бросила в лагеря, как «классовых врагов».
Изо дня в день не по 8, а по 14, по 16 часов в сутки, голодными и замерзающими, работали мы поздней осенью в ледяной воде Белого моря. В ботинках и легких брюках по колено в воде я часами вытаскивал багром из воды мокрые бревна и, уходя в нетопленый барак, на себе самом сушил мокрую обувь и одежду…
И за эту работу мы получали фунт хлеба, тарелку каши (стакан, полтора) утром и миску рыбного супа днем…
Мне страшно вспомнить этот период… Однажды, когда пришлось ликвидировать какой-то прорыв в снабжении бревнами, я проработал под угрозой штыков без отдыха и сна т р и д ц а т ь в о с е м ь ч а с о в подряд…
Я выжил, благодаря своему крепкому организму, закаленному спортом, но потерял почти все свое зрение… А сколько более слабых людей и погибло, и гибнет теперь во всех уголках России, изнемогая в нечеловеческих условиях советских каторжных работ?..
То, чего лучше никогда не видеть человеческому глазу
Однажды, после утомительного дня работы, нашу группу вели под конвоем обратно в барак. У ворот лагерного пункта задержка — там принимают очередной этап: сотни две оборванных грязных людей. По их виду заметно, что они прибыли не из тюрьмы: оттуда люди прибывают как-то немного чище и не такими измученными.
Глядя на прибывших, которых поодиночке впускали в ограду, я внезапно услышал радостный окрик:
— Дядя Боб — неужели ты?
Из толпы весело кивали мне трое нижегородских скаутов, с которыми мне довелось раза два-три встречаться на воле. Несмотря на улыбающиеся лица, вид у них — страшно истомленный. Обросшие, похудевшие лица, оборванная одежда, дырявые сапоги…
— Откуда это, ребята?
— С Кемь-Ухтинского тракта. Дорогу, браток, строили!
Ну, тогда не удивительно, что этап имел такой плачевный вид. Работы по прокладке шоссе через болота и скалы — считались одними из труднейших в лагере. Еще удивительно, что ребята остались на ногах и сохранили силы для смеха и бодрости. Теплое чувство согрело сердце, когда я глядел на эти улыбающиеся мне лица. Крепкая скаутская закваска! По Баден-Паулю, они и на этот, тяжелый и опасный, период жизни смотрели, как на момент суровой жизненной игры, жизненного спорта…
Неразлучная тройка нижегородцев — это скаут-масторское ядро известной дружины «Арго», одной из наиболее ярких в истории русского скаутинга эпохи подполья. Силой событий эта дружина осталась совсем без взрослых руководителей и сформировалась в оригинальную, чисто демократическую семью, с выборным началом и принципом — все равны, и есть только первые среди равных.
По всем отзывам, которые доходили до меня, и собственным наблюдениям, этот скаутский коллектив прекрасно справлялся с работой и в самые тяжелые времена проявил удивительную спайку и мужество.
Трое старших, которые теперь оборванными бродягами стояли передо мной, были арестованы в первые дни «выкорчевывание скаутинга» и попали в лагерь раньше нас, «столичных преступников».
Старший по чину из них был мой тезка, Борис, живой худощавый паренек, экономист по образованию, прирожденный организатор и руководитель. Его ртутная энергия и жизнерадостность заражали всех, и хотя его ворчливо-добродушно поругивали и «непоседой», и «юлой», и «нашим несчастьем», и «горчичником», — все любили его искренно и горячо.
Второй — Юрий, студент, был юношей-мечтателем со спокойным мягким характером, уступчивым в житейских мелочах, но твердым, как кремень, в вопросах чести и идеи.
Третий — Сема, техник-строитель, был старшим по возрасту среди нас. Это был молчаливый и медлительный еврей с характерным задумчиво-печальным взглядом. Сейчас, приветствуя меня, он улыбался, и эта трогательная полудетская открытая улыбка как-то удивительно преобразила его сумрачное лицо.
Мы уже достаточно освоились с лагерной жизнью, и через часа два, в результате нашего коллективного опыта, уже помещались в одном бараке и устраивались на верхних нарах, среди десятков других, таких же вшивых и грязных людей, как и мы.
Но мы были вместе, и эта радость скрашивала всю неприглядность окружающей обстановки. Были вытащены наши немудреные продовольственные запасы — черный хлеб и треска, достали воды и приступили к «пиру».
— Как ты здесь устроился? — начал Борис, беря сухую треску за хвост и стукая ею по столбу «для мягкости».
— Да что-ж?… Уныло… Каждый день часов по 12, по 14 втыкать приходится… Попались мы в переделку, ребята.
— Ну, брат, это ничего!.. Вот на Кемь-Ухте, — вот там — это да!.. Нам и раньше рассказывали, да мы верить не хотели. А потом сами влипли…
— Да ты расскажи толком! — попросил я, наливая теплой воды в старую консервную банку.
— Прежде всего, жизнь там прямо-таки доисторическая — шалаши или навесы из веток. Внизу болото, сверху комары. Еда, сам знаешь, какая — и без работы едва ноги волочишь. А тут такие «уроки» — прямо гроб: только здоровому сытому парню впору… Мы-то на первое время норму выполняли, часов этак в 10 — в 12, хоть и трудно было. А потом и мы сдали, хотя сравнительно с другими и сытые были: и кое-какие деньжата были, и остатки посылок из дому. А потом, крутишь, крутишь лопатой часов 14 или 16 — и никак — сил нет…
— А работа там какая?
— Да работа, по существу, простая: копать длинные рвы по обеим сторонам будущей дороги. Но копать, знаешь как? По колена в воде.
— То-то, я и вижу, что сапоги-то у вас разлезлись, — сочувственно посмотрел я на торчащие из сапог босые пальцы ног.
— Ну, брат, мы и сами-то разлезлись бы. Да, к счастью, нас скоро по канцелярскому делу забрали работать. Сему — десятником, а он нас счетчиками устроил. Грамотных-то почти нет. Больше все крестьяне. А если-б не это — мы оттуда живыми то, вероятно, и не ушли.
— Неужели норма так трудна?
— Нет, если бы кормежка, да платье, да сапоги — то еще как-нибудь можно было бы работать. Но из тюрем все истощенные прибыли, многие в лаптях, да в рванье. Паек — только, только чтоб не умереть. Кругом вода, болото… От комаров все опухли… А пока нормы не выполнишь — торчи на работе, хоть умри. Да еще хлеба не дадут… Ну, вот, и торчит парень часов 16. А на следующий день — пожалуйте — опять такая же норма… Откуда же сил взять?.. Ну, и валятся, как мухи… Ведь все без сил, истощенные, больные… Цынготных — уйма…