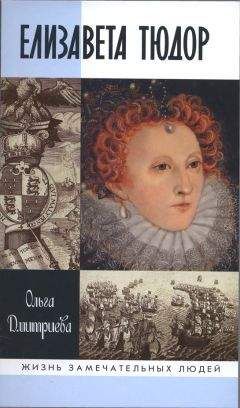Впрочем, такое случалось редко. Как правило, Елизавета и ее подданные расставались после торжественной встречи с увлажненными глазами. Так было в Нориче, Бристоле, Дувре и повсюду, где она терпеливо выслушивала бесконечные многословные приветы и ободряла робких местных ораторов, терявших дар речи в ее присутствии, ласковыми словами. И всегда она улучала минутку, чтобы поблагодарить скромного учителя, городского старшину или священника за его речь, «лучше которой ей не доводилось слышать». В Кембридже она стоически провела целых четыре часа под палящим солнцем, пока были произнесены все ученые латинские панегирики в ее честь, но королева не могла позволить, чтобы плоды чьих-то упорных ночных бдений пропали втуне.
Она демонстративно ела преподнесенные городами угощения, не принимая мер предосторожности против яда, и говорила массу точно рассчитанных теплых фраз. По обычаю города преподносили ей в подарок серебряные кубки с золотыми монетами, собранными жителями. В Ковентри мэр принес к ее ногам сто фунтов стерлингов золотом. «Это замечательный дар, — прочувствованно сказала Елизавета, — я очень редко получала такие богатые подарки». — «С вашего позволения, — с поклоном ответил мэр, — здесь гораздо больше, чем сто фунтов. Здесь сердца всех ваших любящих подданных». — «Благодарю вас, господин мэр, — промолвила королева, — это действительно гораздо больше». Слезы признательности, волны любви и обожания — вот та атмосфера, которую она создавала вокруг себя. В радостной эйфории горожане забывали на время о кровопускании их сундукам и кошелькам. Елизавета владела высшим талантом политика — заставить подданных не жалеть о жертвах, принесенных их государыне.
Слова, слова, слова…
Среди многих талантов, коими была наделена Елизавета, даром звучного и меткого слова она гордилась более всего и ценила его в других. Особая прелесть ее эпохи заключалась в том вкусе к языку, который вдруг ощутили современники. Если Средневековье порой называют «эпохой жеста», то Ренессанс принес с собой тончайшее чувство слова. Воспитанная на цицероновской латыни и демосфеновском греческом, образованная элита английского общества трепетно относилась к стилю речи, как устной, так и письменной, — риторическому, полному пышных метафор, аллегорий, емких афористических высказываний. Высокая элоквенция во многом была модой, принесенной с юга Европы, из Италии, но модой чрезвычайно плодотворной. И в Англии государственный деятель или придворный, не обладавший даром изысканной латинской речи, не способный поддержать беседу на этом универсальном международном языке или блеснуть в дискуссии на философскую тему, был обречен на неуспех. Это влияло и на нормы родного языка, богатство и прелесть которого современники осознали в эту пору. Елизаветинские придворные стремились изъясняться на английском так же изысканно, как и на золотой латыни, что, правда, делало его несколько искусственным. Для особого придворного языка — вычурного, чрезмерно перегруженного сравнениями и постоянными ссылками на примеры из античной истории, возникло даже особое название — «эвфуистическая речь» (по имени Эвфууса — героя популярного в то время романа «Эвфуус, или Анатомия остроумия» Джона Лили). Елизавета была способной эвфуисткой, в особенности когда хотела произвести впечатление на иностранных дипломатов или добиться соответствующего эффекта в парламенте. Но то была лишь игра, как она называла ее, «суета остроумия и красноречия», и при необходимости королева становилась предельно лаконична и точна. А многие современники даже запомнили ее, эту утонченную стилистку, с характерной простонародной божбой на устах. «Раны Господни!» или «Смерть Христова!» — восклицала она, удивленная чем-нибудь. Она по-истине была многолика.
Английский двор всегда славился полилингвистичностью: французский был так же естествен для местного дворянства, как родной английский, аристократия не мыслила себя без итальянского. Но даже на этом весьма отрадном фоне королева выделялась своими способностями. По отзывам ее собеседников самых разных национальностей, ее латынь, французский и итальянский были совершенны, в разговорном греческом она была чуть менее сильна, чем в чтении на нем, правда, ее немецкий и голландский оставались лишь посредственными. Способность поддерживать беседу на всех ведущих европейских языках избавляла ее от потребности в переводчиках, секретарях, словом, техническом персонале, и позволяла самой держать руку на пульсе дипломатических переговоров. Она была немного тщеславна, эта леди-полиглот, и пользовалась любой возможностью продемонстрировать свои таланты, свободно переходя в беседах с иностранцами с одного языка на другой. Сложные испытания, такие как импровизированные латинские рассуждения на щекотливые политические темы, где блестящий стиль должен был сочетаться с тонким подтекстом, лишь раззадоривали ее. Так, когда ко двору прибыл польский посол и произнес безукоризненную по форме, но оскорбительную по содержанию речь, полную упреков, которые английская королева находила беспочвенными, Елизавета звенящим от скрытого негодования голосом дала ему полную сарказма и колкостей отповедь на латыни. Присутствовавший при аудиенции секретарь Роберт Сесил, сын Уильяма Берли, был восхищен услышанным. Елизавета и сама чувствовала, что экспромт ей удался. Но ей мало было поверженного поляка. Она хотела, чтобы свидетелей ее литературно-дипломатической победы было больше. Простим ей невинную женскую слабость: королева велела Сесилу записать ее речь по горячим следам и послать ее молодому фавориту графу Эссексу, чтобы и тот насладился ее стилем, разделив торжество коронованного филолога.
Ее интерес к чужим языкам был настолько сильным, что, когда в Лондон явились послы из далекой Московии с грамотами от их государя, Елизавета с неподдельным вниманием вслушивалась в русскую речь, потом рассматривала буквы неведомого алфавита, выписанные золотом и киноварью, и заключила, что могла бы с легкостью выучить и этот язык. Она никогда не приступила к нему, но несколько раз советовала Эссексу заняться русским, так как это было бы полезно для ее внешнеполитического ведомства, которое он курировал в 90-х годах.
В повседневной же жизни елизаветинского двора рафинированная культура речи находила выражение в искусстве bon mot — острого словца, эпиграммы и нескончаемых словесных дуэлей. Остроумие было божеством, которому поклонялись елизаветинцы. Тон в развлечениях этого рода задавала сама королева, и всякий, кто рассчитывал привлечь ее внимание, должен был оттачивать свое мастерство. Рассказывали, что Рэли, еще не удостоившийся чести стать фаворитом, как-то, стоя у окна, в задумчивости написал на нем алмазом своего кольца: «Я так страшусь упасть, но ввысь готов подняться…» Насмешница-королева немедленно нацарапала ответ: «Когда подводит дух, не стоит и пытаться!» Позднее она получила от него в подарок прелестный сонет-комплимент, в котором прославлялся непременный набор достоинств — глаза, яркостью превосходящие звезды, волосы, затмевающие блеск солнца, и т. д. Но много ли найдется сонетов, отдававших дань уму дамы? Рэли восславил его трижды: «Тот ум, что властвует над моими мыслями… тот ум, что снискал славу до небес… тот ум, что переворачивает вверх дном могучие державы». И если поэт и польстил ей, то скорее относительно глаз и волос.