Каково же было моё изумление, когда, войдя, я увидел на стене его кабинета… огромный портрет Сталина! После всего того настроения, которое создаёт блуждание по пещерам и алтарям, после мистической полутьмы, запаха ладана, треска свечей и мерцания лампад — вдруг портрет Сталина…
«Так вот куда проникло влияние этого человека! — думал я. — В цитадель христианства! В колыбель старого мира!» Я был настолько поражён этим, что долго стоял с разинутым ртом, глядя на портрет.
Пароход, на котором я осенью 1934 года уезжал в Америку, назывался «Лафайет». Со мной ехали несколько французских артистов, приглашённых в Голливуд, и множество туристов, возвращавшихся домой. Да ещё трое чикагских гангстеров со своими подругами. Подруги меняли туалеты по десять раз в день и появлялись к обеду в умопомрачительных вечерних платьях — моделях лучших парижских домов, с бутоньерками из живых орхидей, каждый раз в цвет платья.
Огромные залы этого гигантского парохода были заполнены праздной и шумной толпой людей, которые положительно не знали, что им с собой делать, и думали только о том, как повеселее убить время.
Все виды развлечений были предоставлены в их распоряжение. Тут и залы для гимнастики, и теннисные площадки, и бассейны для плавания, и тиры для стрельбы в цель, и бары, и оркестр, и дансинги, и десятки салонов разных стилей. Были парикмахерские, комнаты для массажа, цветочные магазины и магазины с мужскими и женскими вещами, с предметами роскоши, ювелирными изделиями, парфюмерией.
Бесконечное количество прислуги, мужской и женской, целые дни бегало взад и вперёд по этому огромному отелю-пароходу, стараясь угадать малейшие желания и прихоти каждого пассажира.
В каюту по утрам вам подавали всевозможные джусы, кофе, поридж, тост и яичницу. К обеду метрдотель, ласково встречая вас у порога огромного дайнинг-рума, торжественно вёл вас к вашему столу, где перед каждым прибором стояли запечатанные бутылки белого и красного вина. Если вы пили даже по одной рюмке того и другого, вино это после обеда все равно убиралось прочь, и его уже не подавали больше никогда. К вечеру стояли новые запечатанные бутылки.
Обеды и ужины были чудом обжорства и чревоугодия. Чего-чего только не подавалось! Омары, лангусты, крабы, устрицы, зернистая икра в глыбе льда, освещённая изнутри электрическими лампочками, красовалась посредине столов, как какой‑то ледяной замок из сказок Андерсена.
Блюда сменялись одно другим. Все это было в таком большом количестве, что уносилось почти нетронутым, с тем чтобы уже никогда не появляться больше. Кто съедал эти блюда? Вероятно, прислуга. От этого изобилия пищи у меня окончательно пропал аппетит, а может быть, ещё и оттого, что за моим столом сидела полная дама, которая ела необычайно много и громко, и ещё какой‑то сухой миссионер-англичанин, который ничего не ел и все время шевелил губами, по привычке шепча молитвы.
Кроме меню, в котором было по меньшей мере пятьдесят блюд, вы могли заказывать на следующий день метрдотелю все, что вам вздумается. Вся эта вакханалия еды была рассчитана, очевидно, на аппетит, который появляется почти всегда в море, и на то, чтобы занять праздное время.
Помимо всех пассажиров, за столом всегда находился один необыкновенно общительный джентльмен, говорящий чуть ли не на всех языках мира. У джентльмена был чудесный аппетит. Я помню, он ел какое‑то блюдо с массой гарнира из различных сортов зелени и так великолепно орудовал дюжиной вилок, что я не мог есть от изумления. Он был настоящий виртуоз, артист своего дела. Вилки мелькали в его руках, как металлические предметы в руках у жонглёра.
Оказалось потом, что он был на службе у пароходной компании и приглашён специально для возбуждения аппетита у пассажиров.
После обеда на стол ставились огромные вазы и блюда с дынями, персиками, арбузами, сливами, грушами, апельсинами, яблоками, виноградом величиной с грецкий орех и прочими фруктами. Это была настоящая выставка всего, чем изобилует прекрасная Франция, как бы последний прощальный пир, который она устраивала покидающим её пределы. И перед тем, как попасть в «консервную», «рефрижераторную», «искусственную» Америку, вы могли в последний раз насладиться великолепием всех плодов земных.
На третий или четвёртый день путешествия начался шторм. Огромное туловище парохода медленно и плавно то вползало на вершину водяной горы, то опускалось в бездну. Казалось, что летишь на каких‑то гигантских качелях, очень широко и ровно раскачиваемых.
Пассажиры сразу исчезли. Огромный пароход опустел. Все лежали в своих каютах, и к обеду и ужину выходило не больше десятка человек, мужественно облачённых в вечерние туалеты и смокинги, как полагалось по этикету. В большинстве это были англичане.
… После обеда я сидел в салоне и перечитывал парижские журналы. Кроме меня, в пустом зале никого не было. Большой радиоприёмник стоял на электрическом камине, где тлели искусственные угли. Я повернул кнопку и включил аппарат. Поискав Францию, нашёл Париж.
Политические новости… Люсьен Буайе в новой песенке… Ещё что‑то. И вдруг:
К Мысу ль Радости, к Скалам Печали ли,
К Островам ли Сиреневых птиц —
Все равно, где бы мы ни причалили,
Не поднять нам усталых ресниц…
Это пел я.
Ревела, палила и щёлкала буря. Огромный пароход трещал и вздрагивал от ударов волн, упрямо пробираясь вперёд, а я сидел и слушал самого себя, где‑то за тысячи вёрст затерянный ночью в океане.
Мимо стёклышка иллюминатора
Проплывут золотые сады,
Пальмы тропиков, солнце экватора,
Голубые полярные льды…
Все равно… где бы мы ни причалили,
Не поднять нам усталых ресниц…
Эти слова Тэффи, из которых я в своё время сделал песню, впервые так остро пронзили меня. Я мысленно оглянулся. Столько лет без дома, без родины! И впереди ничего, кроме скитаний.
Вот тут и родилась у меня песня «О нас и о Родине», которая наделала столько шума за границей и за которую даже в Шанхае мне упорно свистели какие‑то личности, пытаясь сорвать концерт.
Позволю себе привести полностью её содержание.
Проплываем океаны,
Бороздим материки
И несём в чужие страны
Чувство русское тоски.
И никак понять не можем,
Что в сочувствии чужом
Только раны мы тревожим,
А покоя не найдём.
И пора уже сознаться,
Что напрасен дальний путь,
Что довольно улыбаться,
Извиняться как‑нибудь…
Что пора остановиться,
Как‑то, где‑то отдохнуть
И спокойно согласиться,
Что былого не вернуть.
И ещё понять беззлобно,
Что свою — пусть злую — мать
Все же как‑то неудобно
Вечно в обществе ругать!
А она цветёт и зреет,
Возрождённая в огне,
И простит, и пожалеет
И о вас, и обо мне!
Это было написано давно. Многих простила за это время наша великая мать-родина. В том числе и меня. Там же, в Шанхае, после многочисленных просьб мне, наконец, дали советское гражданство.


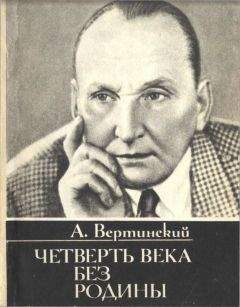
![Анатолий Добрынин - Сугубо доверительно [Посол в Вашингтоне при шести президентах США (1962-1986 гг.)]](https://cdn.my-library.info/books/32820/32820.jpg)

