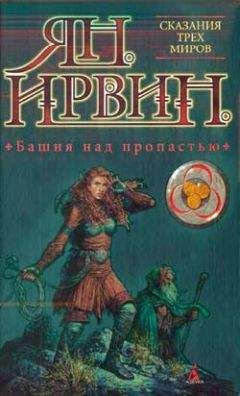мне уже впору упасть, так что не буду перечислять ингредиенты; подавали его в отеле «Савой», где Беннетт имел привычку останавливаться.
Наша инициатива основать совместное движение в духе британской версии «Мира искусства» завершилась провалом, который, правда, пережила наша дружба. Ни у тех, ни у этих просто не было ни гроша для вложения в такой проект, а главное, любые наши старания хоть как-то его продвинуть оставались тщетными. В интеллектуальной жизни Великобритании тогда господствовала группировка, возникшая на заре XX столетия и с тех пор уже вошедшая в историю: кружок Блумсбери, по названию лондонского квартала, где встречались его члены. Самыми усердными из них были Литтон Стрэчей, известный своими биографиями, где автор смело проникает в психологию своих персонажей, Вирджиния Вулф – прославленная писательница Соединенного Королевства, ее муж Леонард, Э. М. Форстер, незабвенный автор «Комнаты с видом» и «Дороги в Индию», и еще экономист Кейнс, в 1925 году женившийся на Лидии Лопуховой – моей коллеге по «Русским балетам» и подруги, с которой мы всегда были близки.
Среди тех, кто примыкал к этой группе, – много достойных имен: Олдос Хаксли, Бертран Рассел, Джордж Оруэлл, Т. С. Элиот, Людвиг Витгенштейн и преуспевавшая романистка Вита Сэквилл-Уэст, десять лет состоявшая в любовной связи с Вирджинией Вулф. Члены кружка Блумсбери даже открыли собственное ателье («Омега», оттуда и мой браслет, подаренный Кейнсом) – там до высот истинного искусства поднималось местное ремесленничество. Это был один из их идеологических «коньков».
Как соперничать с таким ареопагом талантов и благородных душ, обладавших международным признанием и уже тридцать пять лет остававшихся глубоко сплоченной группой? В противоположность нашему кругу (Нэш, Блисс, Бакс), мужчины из Блумсбери по разным причинам не побывали на Первой мировой. У них было время отлакировать подобавшие им карьеры и поддерживать менталитет, позволивший стать живыми легендами: уверенно сформировывать живую элиту по ими же установленным законам, откуда и известная надменность к тем, кого они считали людьми «не своего круга». Происходившие из самых благовоспитанных слоев буржуазии, они были красивы, блестяще образованы, полны достоинства. Большинство – выпускники Кембриджа. Кружок скрепляли тесные узы вплоть до эндогамии. Арт-критик Клайв Белл приходился деверем Вирджинии Вулф, а художница Ванесса Белл была ее сестрой. Все были бисексуалами и охотно обменивались партнерами. Так, художник Дункан Грей был любовником Кейнса, перед тем как тот женился на моей подруге Лидии, что отнюдь не мешало Дункану во всеуслышание заявлять, что и он в нее безумно влюблен.
Если не считать атеизма, свободы нравов, комплекса превосходства и известной концепции Красоты («Смысл красоты – проложить привилегированный путь морали»), члены этого братства имели немного общего. Политически их мало что объединяло. Факт в том, что среди них были, поддерживавшие и распространявшие их труды, и богатый наследник (Клайв Белл), и издатели, литературные критики, владельцы больших журналов (в их числе муж Вирджинии Вулф, основатель «Хогарт Пресс»), и книготорговцы, владельцы собственных неплохих книжных магазинов, – но что не менее важно, что все они взаимно поддерживали друг друга, сочиняя мемуары, где взаимно цитировались, что способствовало репутации и долгожительству кружка Блумсбери.
Но хотя наш скромный кружочек и не мог потягаться с такой армадой, в одном нам все-таки повезло: Генри (который тоже был выходцем из Кембриджа) и я близко познакомились с одним из них, и не последним: Джоном Мэйнардом Кейнсом.
Прежде чем вспомнить о необычной и симпатичной паре – экономисте Кейнсе и балерине Лидии Лопуховой – и о ее важной роли в моей жизни, надо вернуться к соображениям более личного характера.
Генри, устав от скромной должности в банковской системе, в начале 1922 года наконец воскресил старые связи и получил неожиданное назначение: пост генерального секретаря в британской делегации Союзнической комиссии по военным репарациям в Болгарии. Два года спустя он станет ее официальным делегатом. Помимо того, что эта должность куда больше соответствовала компетенции моего мужа, так еще и зарплата выросла в семь раз по сравнению с банковской – иначе говоря, она стала эквивалентной цивильному листу царя Болгарии Бориса III! Я предпочла бы Прагу, где еще юной балериной познала первый вкус большого успеха, Прагу, так изобиловавшую памятниками и культурой, – но утешилась тем, что снова вспомню тесные связи Болгарии с моей родиной и возможностью поддержать потоки беженцев из России, прибывавших в те годы в Софию.
В остальном София означала для нас разлуку, разрыв семейной ячейки, ведь с 1922-го по 1929 год турне увозили меня далеко от моих домочадцев.
Мы с Генри поочередно воспитывали Ника. Болтаясь между Парижем и Софией, проездом в Монте-Карло, Берлине, Лондоне, Гамбурге, Мюнхене, Копенгагене… наш сын стал понемногу проявлять симптомы тревожного психического расстройства. Однажды Генри застал его воткнувшим себе в ухо гусиное перо.
– Я пишу внутри, как меня зовут, – такой ответ получил ошеломленный отец.
Не нужно быть последователем Фрейда, чтобы почувствовать, какая боль слышна в этих словах. Стараясь написать свое имя внутри собственной головы, Ник требовал окончательной и несомненной идентичности. Да и как могло быть иначе у ребенка, рожденного при самых тяжелых обстоятельствах: в разгар войны, когда готовилась революция, а потом без крещения и документов оторванного от родной страны; воспитывавшегося парой, которая родила его незаконно и бежала, а потом годами внушала ему, что муж его матери (Василий Мухин) ему не отец, а настоящий отец (Генри Брюс) – тот, кто похитил его и увез; что зовут его не Никитой, а Николасом; что он не русский, а англичанин и уже никогда не вернется в свой родной город, который из Санкт-Петербурга превратился в Петроград в тот миг, когда родители его зачинали, а теперь и вовсе называется Ленинградом, и что родная страна теперь недоступна для него?
Сейчас я рассуждаю в шутливом тоне, но сколько же раз в ответ на яростные вопросы сына я страдала и ломала голову над тем, какие объяснения должна ему дать – раз и навсегда прояснившие бы его сознание и утихомирившие сердце? С тринадцати и до четырнадцати лет его кризисы идентичности становились все драматичнее. Тогда он учился в Итоне и уже начинал пренебрегать занятиями. Он стал молчаливым, злился на товарищей. А в интернате отказывался принимать пищу и умываться. Дирекция встревожила нас и посоветовала показать Ника психологу.
В те выходные дни, когда Ник приезжал домой, он просыпался посреди ночи и принимался кричать, требуя, чтобы я немедленно пришла к нему. И я сидела, выдерживая его обвиняющий взгляд, как прежде сидела под таким же взглядом Василия, а вопросы звучали как разрывы бомб:
– Как ты можешь быть