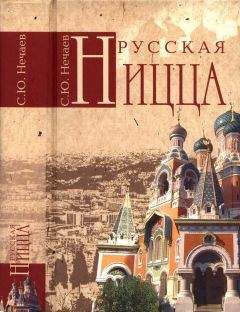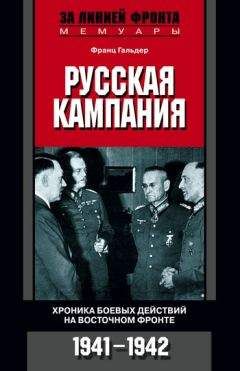Я просто не верю своим ушам.
— Не стоило? Ты шутишь, Жорж?
Но на него набрасывается Адамович.
— Что ты за чушь несешь? Молчи!
Георгий Иванов пожимает плечами.
— Не бесись, Жорж! Молчу. Но мне больно видеть, как Ира изводится за этой проклятой рулеткой. Ведь у нее слабое здоровье. Ей такой сизифов трудне по силам.
Разговор этот происходит по дороге в отель — всего несколько шагов, и мы уже входим в холл. Я даже не спрашиваю, почему «сизифов труд», ведь мой труд приносит ощутимые результаты. Я так устала, мне так хочется спать, что не до расспросов. Лечь, скорее лечь…
Еще один день, проведенный в казино. Огромный, тяжелый, переполненный волнением и страхом. Каждая минута, как час. Время тяжелым грузом ложится мне на плечи. Господи, до чего я устала!..
Я играю осторожно, мелко, тружусь как муравей — я почти ничего не выигрываю. Я стараюсь победить неудачу, перехожу к другому столу, прерываю игру. Нонет, неудача не покидает меня до самого вечера.
Мне почему-то стыдно признаться обоим Жоржам, что я за весь день выиграла — с каким трудом — лишь триста франков. Но я, правда, не виновата.
Адамович хмурится.
— Нет, виноваты. Вы пропустили шанс, когда вам везло. И вчера, и позавчера.
Георгий Иванов насмешливо пожимает плечами.
— Так-так, правильно. Нашел-таки козлика отпущения, виноватого во всем.
Он предлагает мне отправиться завтра в Грасс к Буниным, прекратить на время толочь воду в ступе. Ведь явно ничего из этого не получится. Но я о том, чтобы ехать в Грасс, и слышать не хочу, и Адамович поддерживает меня.
— Никаких поездок — вы правы. Сегодня вам не везло, завтра повезет.
Я киваю.
— Конечно, может повезти.
И действительно, на следующее утро, как только я заняла свое — все то же — место возле крупье, мне с первой ставки начинает везти, я играю все так же «скаредно» и осторожно, тружусь как муравей, боясь рисковать, — так вернее. Но я чувствую присутствие «крылатой удачи». Меня охватывает радостное волнение. Победа! Победа! Холмик жетонов передо мной хотя и медленно, но явно увеличивается.
И тут неожиданно за моей спиной, в неурочный час — ведь еще рано идти завтракать — появляется Адамович. Я улыбаюсь, указывая ему на груду жетонов.
— Видите, вы были правы. Мне везет сегодня.
Он протягивает руку.
— Мадам, дайте мне!..
Я просто своим ушам не верю.
— Но вы же обещали не играть. Вы…
Он прерывает меня.
— Мадам, дайте мне!
Это уже не просьба — это требование. Меня оно возмущает.
— Вы с ума сошли! Ни одного жетона не дам. Уходите! Не мешайте мне!
Он сразу весь меняется. Таким я его никогда не видела. Лицо его становится злым и жестоким, голос визгливым.
— Не дадите? Мне не дадите? Вот как? А чьи это деньги? Ваши или мои?
Я, оторопев, смотрю на него.
— Георгий Викторович, вы шутите?
— Нисколько не шучу! — еще визгливее вскрикивает он. — Чьи это деньги — ваши или мои?
— Ваши! Ваши! Берите!
Я вскакиваю со стула и вытряхиваю из своей сумки жетоны и бумажные деньги. Они разлетаются во все стороны.
— Вот — берите! Берите все!
Он трясущимися руками подбирает жетоны и деньги и, не обращая на меня внимания, начинает пригоршнями разбрасывать их по плато.
Убегая, я еще успеваю увидеть, как крупье своей лопаточкой сгребает все его ставки.
Меня трясет от оскорбления и отчаяния. Все пропало. Я останавливаюсь на последней ступеньке лестницы казино и перевожу дыхание. Надо прийти в себя, взять себя в руки. Я поправляю съехавшую набок шляпу, всовываю руку в карман за носовым платком и вынимаю из него неизвестно как туда попавший большой продолговатый, прозрачный, стофранковый жетон. Значит, я Адамовичу не все отдала. Надо вернуться, швырнуть ему его. И я стремглав возвращаюсь в казино. Но тут происходит что-то непонятное.
Вместо того чтобы бежать в тот зал, где я играла, где сейчас Адамович проигрывает мной с таким трудом добытые деньги, я останавливаюсь в первом зале, подхожу к столу и, разменяв стофранковый жетон на двадцать красных пятифранковых, начинаю играть. Как во сне. Почти не сознавая, что делаю. Ставлю ставку за ставкой.
И выигрываю еще и еще. Передо мной уже снова лежат стофранковые жетоны. Я впиваюсь глазами в шарик, кружащийся с жужжанием в рулетке. Мне кажется, что это не шарик, а мое сердце кружится там в рулетке. И как это больно! Но какое ослепительное счастье, когда крупье объявляет номер, тот, на который я поставила.
Я играю вопреки всем моим правилам, безрассудно рискуя. Но, должно быть, «крылатая удача» не только не покинула меня, но руководит моими ставками. Я играю так, будто от выигрыша или проигрыша зависит вся моя жизнь, все мое будущее.
И вдруг в дверях появляется Адамович, бледный, растерянный, с искаженным лицом. Только бы он не увидел меня!
Но он уже идет ко мне несвойственной ему подпрыгивающей походкой. Он протягивает руку к моим жетонам.
— Мадам, вот вы где! Я все проиграл. Дайте мне!
Я даже не протестую. Я сразу сдаюсь и молча отхожу в сторону, уступая ему место, и вдруг, не в силах сдержаться, заливаюсь слезами, даже всхлипываю. Боже, какой позор! Я без оглядки вылетаю из казино. Мчусь в отель, земля качается подо мной, деревья и цветы несутся мне навстречу, только бы они не сбили меня с ног, только бы не упасть. Лифт… коридор… Дверь нашей комнаты. Я кричу:
— Жорж! Все погибло! Он отобрал у меня деньги! Он все проиграл! Он все проиграл!
Но Георгий Иванов как будто не понимает, не слышит. Он обнимает меня.
— Успокойся, не плачь, не плачь!
— Все погибло, — кричу я. — Все погибло. Он проиграл все деньги.
Но это потрясающее известие совсем не потрясает его.
— Успокойся, успокойся, — умоляет он. — Ничего не погибло! Не плачь, ради Бога. Напротив, это даже к лучшему. Ведь Жорж в первый же день проиграл все деньги, и ты напрасно старалась. Он упросил меня скрыть от тебя. Он был как помешанный, он надеялся, что ты все отыграешь».
В тот же день Г. В. Адамович вымаливал прощение:
— Это было чудовищно грубо. Но мне ночью приснилось, что я все отыграю, и я поверил сну. Я был в забытьи, в беспамятстве…
Конечно же, И. В. Одоевцева его простила. Далее она пишет:
«Из этого-то «рулеточного приключения», как Адамович впоследствии окрестил нашу поездку в Монте-Карло, вырос миф о проигранной вилле, разорившей, по одной версии, его мать, по другой — его тетку, и о его угрызениях совести.
На самом же деле воспоминание о «рулеточном приключении» не только не вызывало в нем «угрызений совести», а, напротив, превращалось во что-то очень забавное. Приходя в хорошее настроение, он не раз с усмешкой спрашивал меня: