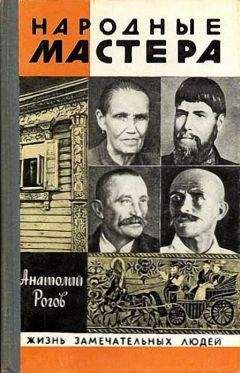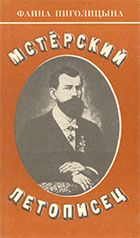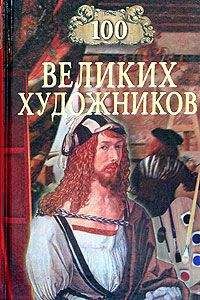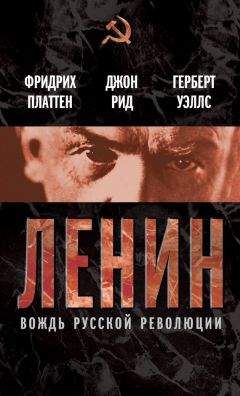— Товарищи! Начинаем обсуждение.
Через час в мастерской шумели, как на самом буйном сельском сходе. Обвиняли, каялись, огрызались, били себя в грудь, кричали… И спрашивали, спрашивали друг у друга и у Бакушинского: а что же им дальше-то делать, если в их живописи вдруг такие страшные яды обнаружились? Как его менять, собственное мышление-то, — ведь выросли с ним…
В правоте Анатолия Васильевича никто не сомневался, он был для них непререкаемым авторитетом.
И в этой неожиданной, до предела накаленной обстановке как-то не сразу, только в середине обсуждения, вдруг заметили, что нет Голикова. Давно уже нет. Повертелся малость после доклада, посмотрел как-то странно и вроде с грустью на Бакушинского, криво улыбнулся ему, раскинул руки: что, мол, вот так вот — и, ни слова никому не сказав, в коридор, а оттуда — под дождь. Курившие на крыльце думали, что он, оглушенный услышанным, остудиться решил под дождичком — скоро вернется. И вот нет его. Сломили мужика, может и запить, в Палехе такое видывали.
А Голиков убежал смотреть, как два молодых монтера из Шуи будут «тянуть» к его дому радио. Они так и сказали «тянуть». А он никогда не видел, как это делается, радио в Палехе до той поры было только на почте, и распоряжался им почтовик Иван Никитич, человек очень характерный. Захочет — включит, а не захочет — уговаривай не уговаривай — не даст послушать, и все… Голиков раз десять в сельсовет ходил, просил: когда будут трансляцию налаживать, чтоб ему первому провели.
И хотя ничего особенного в работе монтеров не оказалось, точно так же по селу раньше тянули телеграф и электричество на Унжу, Голиков и на следующий день был все время возле этих двух парней. Человек десять мальчишек и он. Так, табунком, от столба к столбу и передвигались. Он таскал нанизанную на проволоку гирлянду больших фарфоровых изоляторов и временами встряхивал ее, к великому удовольствию ребятни, — изоляторы мелодично пели.
Бакушинский не уезжал. Встречался с художниками, растолковывал, как он понимает реализм в их живописи. Все повторял: «Нужен новый метод мышления».
Но с Голиковым так больше и не виделся. Наверное, ждал к себе, а тот не пришел…
— Счас! Счас! — Голиков радостно суетился. Несмотря на приближавшуюся грозу, народ все же собирался к его дому. Уже человек тридцать было: и мужики и старухи. И еще подходили.
Наконец радист постарше воткнул вилку в черную кругленькую розеточку с блестящими дырочками, только что привернутую над его столом, выставил на подоконник большой черный картонный диск воронкой, покрутил в нем ручку. Раздался сухой треск, будто кто лучину щепал, потом свист с треском, и вдруг мужской немыслимо красивый тоскующий голос явственно пропел:
Мужики, рассевшиеся было на травке обочь дороги, разом поднялись и приблизились к окну. А кривая старушка бобылка из Ильинской слободы часто закрестилась и попятилась в сторону.
Потом опять засвистело и затрещало, и женский голос сказал, что работает радиостанция имени Коминтерна и что сейчас будут передавать новости.
Мальчишки завопили «ура!». Голиков тоже закричал.
Он маячил над черным диском в распахнутой синей косоворотке, и потное лицо его светилось такой радостью, словно это радио придумал он.
Новости были про виды на урожай, про собрания по поводу уклонов в партии, про кризисное положение в экономике Бельгии и Германии…
Все восторженно переглядывались, улыбались, ахали.
Теперь к Голиковым каждый день шли слушать великое чудо — радио. Иной раз целая толпа собиралась.
Приходили и художники. Руганые — реже. Они в эти дни больше в своих огородах и пчельниках ковырялись или с корзинками и удочками по лесам да речкам шастали. Встретятся где, зыркнут быстро и пытливо друг на друга, постоят, потупившись, покурят, спросят: «Ну как?» — «Да так», — и весь разговор, и в разные стороны.
К Голикову подкатывались поодиночке.
— Ты-то что думаешь? Ведь символ-то ты?
— Я доволен. Символом еще не был…
— Ладно зубоскалить-то! Вакуров неделю у воды без движения сидит. Ни копейки нынче не заработал. Дыдыкин тожеть. План трещит. Говорят, Бакушинский книжку написал, тоже ругает… Ты дело начинал — ты и… это…
Мастеров раздражало его спокойствие. Всегда такой бешеный, а тут…
— Ладно, скажу. Это, значит, как федоскинцы, что ли? К этому сводится… Несогласный я! Дурь это! Мы не щенки на веревочках. Голиков… — Споткнувшись на полуслове, он сек воздух руками. — Голиков, конечно, сказать не может. Но Голиков думает, Голиков знает и еще скажет…
Но если по совести, то он и сам еще не знал, что он такое знает и что скажет. Он только почувствовал тогда, что жестокие, уничтожающие слова Бакушинского вовсе не ранят его, почти даже не трогают. Он как будто был выше их, сильнее. И сильнее профессора Бакушинского. Он понял, что Бакушинский это тоже почувствовал, потому и ожесточился. Умный человек, а не удержался… И вот теперь Голиков ждал, во что же отольется эта его сила, и знал, что это и будет его ответ. А она отольется, обязательно отольется — ее же никогда не было в нем так много, и он никогда не был так спокоен…
Снег на крышах напоминал толстые, обвисшие по краям пуховики. А на балконах возвышался причудливыми сугробами, под которыми пряталась теперь уже непонятно какая рухлядь. И старый одинокий клен — единственный в узком дворе — тоже был облеплен сырым снегом, который падал и падал вчера почти весь день.
«И уже не белый, за одну ночь стал серым. — Иван Иванович давно смотрел в щель двора на этот клен и крышу сарая, где у самой трубы азартно копошились три воробья, что-то откапывали в снегу. За покрытым сырыми пятнами домом справа надсадно тренькал трамвай. — А какой у нас сейчас снег! Какой обильный и веселый! Какой желтый и синий! Какой слепящий! Особенно если в Красное пойти или к Николаю Зиновьеву. Пока до Красного дойдешь, душа как будто в радости выкупается. А всего-то две версты…».
Он уже больше года жил в Москве, делал иллюстрации к академическому изданию «Слова о полку Игореве».
Сначала думали поручить эту работу нескольким палешанам, но Алексей Максимович Горький, опекавший издательство «Академия», написал из Сорренто, что лучше бы отдать ее «одному и лучшему мастеру», и таким «одним» и самым талантливым является Иван Иванович Голиков. Талантливость его признана всеми мастерами Палеха. Он мог бы дать «Слову» не только иллюстрации, но и заставки, концовки, заглавные буквы.
Оформлением книг никто из палешан не занимался ни в старые времена, ни в новые. Он опять — первый. Опять принялся за дело, не зная никаких его законов, не зная даже азов полиграфии. Плакаты в Шуе изготовлялись примитивно, литографским способом.