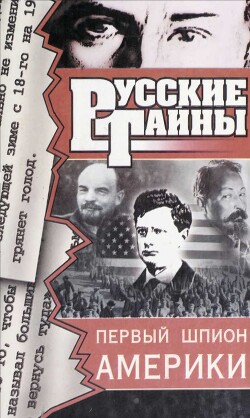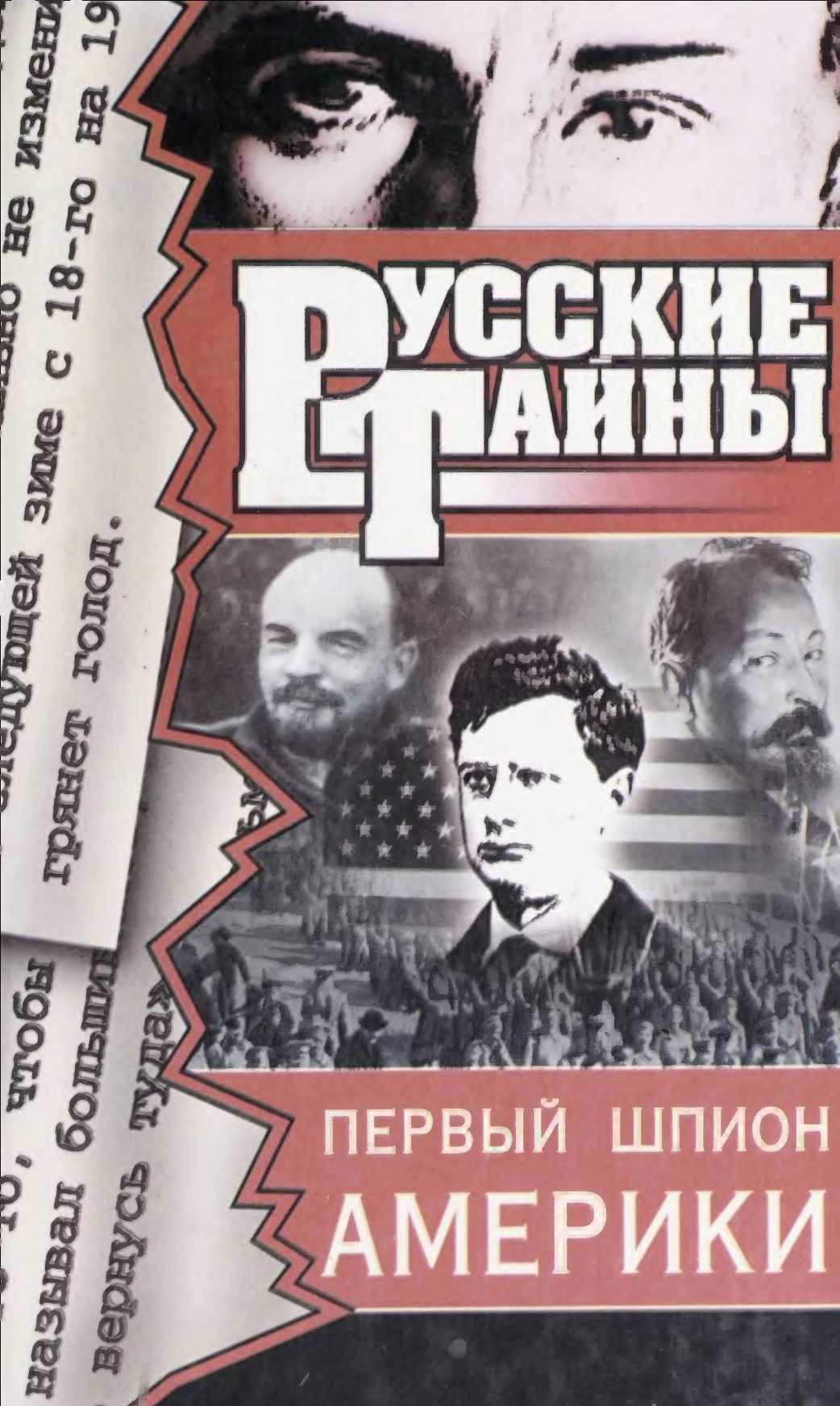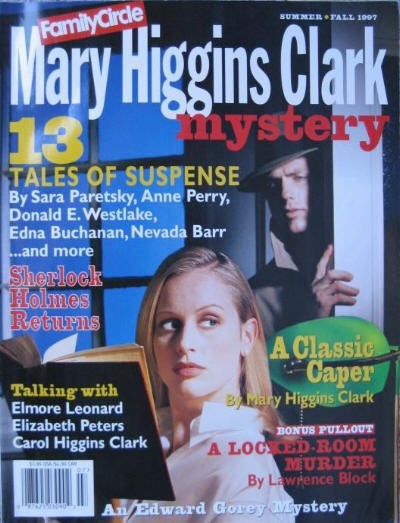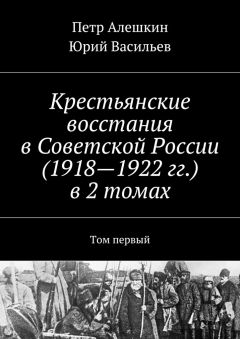— Кстати, они где сейчас живут?
— В вагоне на запасных путях Николаевского вокзала.
— Чтобы в случае чего рвануть первыми! — рассмеялся Сид.
— Послушай! Хватит уже анархии. Нам надо объединиться, скоординировать наши планы и выступить единым фронтом. Сразу же после этой встречи я поеду в Самару к чехословакам, чтобы они в назначенный нами час начали наступление на Москву.
— Гениально! Боже, как я тебя люблю, Ксенофон! — Рейли бросился к нему, чтобы расцеловаться, но Каламатиано успел увернуться, он не любил пылких мужских объятий. — Неужели мы нашими скромными силами сумеем срезать этот нарыв?! Хо-хо! — Pейли допил виски. — Это будет что-то! У господина бывшего английского генконсула даже ноздри раздулись, когда я показал ему вексель на пять миллионов.
— А как его Мура?
— Я ее не видел, поскольку мы встречались в «Трамбле».
— Я ему позвонил 28 июля, Мура в этот день вернулась из Ревеля, и Локкарт даже не смог со мной разговаривать. Он лишь промурлыкал: «Извини, но сегодня вернулась Мура, я должен быть с ней»! Больше я ему не звонил.
— Ни в каком Ревеле Мура не была! — усмехнулся Сид.
— А где?
У Рейли крутился ответ уже на кончике языка, этого острослова так и распирало от желания поделиться самой сокровенной тайной, но он удержался. Ксенофон мог бы надавить на него, и Сид никуда бы не делся, но Каламатиано были неинтересны похождения этой женщины. После искренней и прекрасной в своей естественности Аглаи Николаевны Мура вдруг предстала для Ксенофона Дмитриевича совсем в ином свете: манерной и фальшивой.
— Извини! — шумно выдохнул Рейли. — Но дал слово. Не могу сказать. Но запомни: остерегайся этой женщины, я тебя уже предупреждал!
Он наполнил стаканы.
— У меня есть свежие огурцы, соль, хлеб и тушенка. Хочешь? — снова спросил Каламатиано. — Извини, но мои на даче, поэтому живу, как заправский холостяк.
— И давно?
— Почти все лето.
Рейли присвистнул.
— Тушенку не надо, а огурцы и хлеб тащи!
Ксенофон отправился на кухню. Достал огурцы, помыл их под краном.
— И кто скрашивал твои летние вечера?
— Девитт Пул, — принеся в гостиную хлеб, соль и огурцы, ответил Ксенофон.
— Не надо басен Лафонтена! Никогда не поверю! — озорно блеснув глазами, воскликнул Рейли. Он сделал себе изящный бутерброд из черного хлеба, круто посыпав его солью и положив сверху две четвертинки пупырчатого огурца. — Я все же немного тебя знаю. Да-да, не смотри на меня глазками орлеанской девственницы, которая, говорят, отличалась большой резвостью в таких играх. Как это тут в России говорят? В маленькой луже черти водятся?
— В тихом омуте черти водятся, — поправил его Каламатиано.
— Вот-вот! В тихом! Таком, как ты! И кто она?
Рейли обожал подобные разговоры. И сам любит рассказывать о своих любовных приключениях и особенно слушать, когда рассказывали другие.
— Так кто она?
— Я же тебе сказал.
— Понятно. Не хочешь поделиться радостью со старым другом? — притворившись обиженным, проговорил Рейли.
Сид съел все огурцы и полкраюшки хлеба, видимо, в «Трамбле» его не слишком гостеприимно попотчевали, и ушел, так и не дознавшись, с кем крутит роман его тихий американец. Он звал его с собой к Фрайдам, Ксенофон оставлял Рейли у себя, но они так и не договорились. У Каламатиано просто сил не было ехать пировать к Сашке. Он мечтал лечь и хорошенько выспаться: будь что будет, даже если придет Синицын и убьет его. Он уже устал бояться.
Собрание в консульстве было назначено на три часа дня, и, выскочив в полдень из дома, Ксенофон Дмитриевич понесся на Большую Дмитровку. Он, к стыду своему, не был у Аглаи Николаевны целых три дня и отчаянно ругал себя за такое небрежение к любимому человеку. Он несколько раз пересаживался с одного извозчика на другого, сделал круг по Дмитровке, Камергерскому, Тверской, Столсшникову и, снова выйдя на Большую Дмитровку, заходил в разные парадные, высматривая филеров, но никто его не преследовал. Это внушало беспокойство.
Наконец он поднялся по заветной лестнице и постучал. Через несколько секунд послышались знакомые шаги и раздался голос Аглаи Николаевны: «Кто там?» Ксенофон Дмитриевич отозвался. Щелкнул замок, звякнула цепочка, и дверь распахнулась. Он увидел ее лицо и застыл в оцепенении: Аглая смотрела на Каламатиано в страхе и не узнавала его. Он сделал шаг к ней, и она тотчас отпрянула назад, точно перед ней возникло чудище. Губы задрожали, в глазах промелькнул странный, чужой блеск: ни живой улыбки, ни знакомой искорки. Ссохшаяся маска, в которой еще угадывались красивые черты.
Целое мгновение они молча смотрели друг на друга. Аглая Николаевна первой не выдержала этого напряжения, внезапно разрыдалась и упала ему на грудь, он успел подхватить ее и прижать к себе.
Она никак не могла успокоиться, порывалась что-то сказать, но вместо слов вырывалось лишь бессвязное бормотание вперемешку со слезами. Он гладил ее по волосам, приговаривая:
— Ну что ты, что ты, я не мог раньше, я только и думал о тебе, я здесь, я с тобой…
Ксенофон Дмитриевич закрыл дверь, увел ее в спальню, усадил на кровать, присев перед ней на корточки и пытаясь заглянуть ей в лицо.
— Что случилось, Аля? Что произошло?
Минут через пять она успокоилась, поднялась, вышла на кухню. Вернулась с бутылкой водки. Он ни разу не видел, чтобы она пила водку. Аглая налила себе и Ксенофону по полстакана. Они молча выпили, хотя на три часа у Каламатиано было назначено важное совещание.
— Что случилось, Аля?
— Он пришел на следующий день и сказал, что убил тебя. У него были такие страшные глаза, что я не могла не поверить. Он был пьян, и эти жуткие глаза. Потом подполковник потребовал, чтобы я немедленно стала его, иначе он убьет и Петю. Он кричал, что я теперь буду его шлюхой и он сможет делать со мной все, что ему захочется, даже проигрывать в карты приятелю, этот человек ударил меня по лицу, стал срывать одежду, потом вытащил револьвер и закричал, что застрелит моего сына, если я не отдамся ему тотчас же… — Аглая Николаевна не в силах была сдерживать слезы, закрыла лицо руками. Ксс-нофон Дмитриевич обнял ее. — Я вынуждена была подчиниться. Разделась, он бросился на меня, стал тискать, кусать, а когда у него ничего по-настоящему не получилось, он в ярости стал избивать меня. Избил до крови и ушел. Вот…
Она распахнула блузку, и Каламатиано увидел ее грудь и плечи в кровавых рубцах и лилово-фиолетовых кровоподтеках. Дрожащими пальцами она застегнула блузку, и Ксенофон Дмитриевич осторожно обнял ее и поцеловал в висок. Она всхлипнула, прижалась к нему, и он долго гладил ее по спине, пока она не успокоилась.
— Вечером пришел Петя, я рассказала ему обо всем, просила найти вас, но он не знал адреса. Петя молчал, но я видела, как он побледнел, услышав мой рассказ. Он вдруг сказал, что Синицын больше не придет к нам, и двинулся к двери. Я пыталась его задержать, но он ушел и не вернулся. Прошло уже два дня. Или они убили друг друга, или подполковник убил Петю. Я ничего не знаю о сыне — где он, что с ним?! Прошло уже два дня! Ты должен непременно разыскать его! — Аглая Николаевна снова разрыдалась.
Ксенофон Дмитриевич поднялся.
— Нет-нет, не уходите! — воскликнула она, хватая его за руки. — Побудьте еще немного! Я боюсь одна!
— Аля, я должен выяснить, где Петя! — проговорил Каламатиано. — А ты ляг, поспи. Вечером я обязательно вернусь. Закройся на цепочку и усни. Слышишь!
— Хорошо, — неожиданно смирилась она. — Возьмите ключи, закройте меня и обязательно вернитесь! Я буду вас ждать! Вы вернетесь?
— Я вернусь.
Выйдя на шумную и многолюдную в этот дневной час Большую Дмитровку, Ксенофон Дмитриевич на мгновение задумался. Времени было без двадцати два. На совещание в консульстве опаздывать он не мог, но в его распоряжении имелось минут сорок. Появляться в Военконтроле было неразумно. Съездить к подполковнику домой?.. Но вряд ли в этот час он сидит дома. Правда, его жена сидит дома, и она скажет, где он. Это единственное, что он может пока сделать. Каламатиано уже хотел остановить извозчика, как вдруг увидел Брауде. Тот, в светлом модном костюме, с рыжеватой щегольской бородкой, стоял на другой стороне улицы и в упор смотрел на него. Все произошло столь неожиданно, что Ксенофон Дмитриевич в первую секунду даже растерялся. Брауде пересек улицу и подошел к нему.