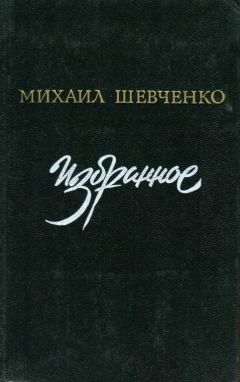В письмах к наиболее близким людям он часто подписывается — эсквайр. Интересно. Романтик он был!..
9
Как-то году в пятьдесят втором к нам в общежитие пришел высокий, чернявый, с темным пушком усов, Саша… Фадеев. Оказалось — сын Александра Александровича. Он учился в девятом классе или десятом, но по развитию был гораздо старше своих лет. Обычно он появлялся внезапно, потом надолго исчезал.
Мы подружились. Просиживали у нас часами за шахматами, спорили о литературе. И конечно, я расспрашивал его об Александре Александровиче.
По рассказам Саши, отец любил его, был к нему внимателен и щедр. Но, видимо, вместе они бывали нечасто. То и дело на мой вопрос — чем сейчас занят Фадеев — Саша отвечал: уехал на конгресс, на заседание Совета мира, в заграничную командировку и т. д. и т. п.
Лишь однажды Саша сказал, что Александр Александрович уже месяца три живет на Урале, изучает жизнь уральского завода.
Позже в «Огоньке» появятся главы «Черной металлургии». Сразу станет ясно, что даже крупному таланту, каким был наделен Фадеев, трудно было освоить новый, незнакомый ему материал.
Как-то я спросил у Саши, не думает ли Александр Александрович вернуться к «Последнему из удэге»?
— Он много раз пытался это сделать, — ответил Саша, — но, наверное, слишком большой перерыв в работе над этим романом… Страшно трудно войти снова в атмосферу его. Причем все время отца отрывают от работы…
Слушал я Сашу и чувствовал, что он, видимо, слово в слово повторяет высказывания Александра Александровича ему или при нем кому-либо из друзей.
Однажды мы пошли с Сашей на лыжах в лес. Остановились передохнуть в кустарнике на берегу Сетуни, и Саша рассказал про любопытный случай.
Во время одной из бесед с ним Александр Александрович подошел к книжным полкам, окинул их взглядом и с грустью сам себе сказал: «Да, эсквайр, хороший ты писатель, но вот Джек Лондон лучше. У него, скажем, есть «Мартин Иден», а ты своего «Мартина Идена» не написал… Ты многого не написал, эсквайр… Ты уж так и останешься автором двух книг…»
Александр Александрович снял с полки знаменитый лондоновский роман, полистал его, бережно поставил на место, сел в кресло, замолчал и больше с Сашей в тот день не разговаривал. И ни с кем в тот день не разговаривал больше. Один просидел до вечера в кабинете.
10
Из статьи «В родном краю» (1935):
«Опыт показал, что писателю трудно плодотворно работать, живя преимущественно в Москве. И это, конечно, не потому, что в Москве не делают больших дел. В Москве творят великие дела, но обстановка литературной среды, общественные и литературные обязанности, заседательская суетня — все это отнимает невероятно много времени. Коллективные поездки писателей на стройки, в колхозы редко оправдывают себя. Такой образ жизни, какой ведет М. Шолохов, которого я высоко ценю как писателя, наиболее, по моему мнению, оправдан. Шолохов не только работает в тесной близости с людьми, о которых пишет, — он живет их интересами, и его книги о них совершенно органически связаны с его и их жизнью».
Прав Фадеев. Совершенно прав. Десятки лет жизни Союза писателей подтвердили это. Неимоверно ширится круг всяческих литературных обязанностей, беспредельна уже заседательская суетня, бесчисленны «писательские десанты» во все концы страны, пожирающие время и писателей, и людей, принимающих «десанты» на местах. Расул Гамзатов как-то сострил: «Кажется, уже все сделано, чтоб я не писал, но я все-таки пишу…» А велик ли толк от этой суеты?.. Да, встречи с трудящимися нужны. Да, нужна пропаганда литературы. Но не наскоком сотни литераторов!.. Главное в жизни писателя — создание книги, а она рождается, как правило, не в скоропалительных галопных наездах куда-либо. Книга как человек — выстраданное детище.
11
Из фадеевского письма Ермилову после прочтения его рукописи о Достоевском:
«Я прилагаю здесь листок, на котором обозначены все страницы с моими замечаниями, как крупными, так и мелкими, иногда это просто «птички». Я вспоминаю, с какой ненавистью я смотрел вначале на Тарасенкова, а потом (при издании отдельной книгой) на Ю. Лукина, когда они приходили ко мне беседовать и выкладывали на стол подобные листочки с номерами страниц — листочков пять-шесть, заключающих сотни и сотни больших и мелких поправок. Как мне хотелось сказать что-нибудь грубое и оскорбительное, когда, шурша этими листочками, они раскрывали передо мной ту или иную страницу, девственные поля которой были мелко исписаны, испещрены вопросительными и восклицательными знаками (а у Тарасенкова были даже «sic!» и «N. B.» и т. п.). Но в конце концов я принял ужас сколько замечаний и поправок у Тарасенкова и, как сейчас помню, 205 поправок у Лукина, потому что они были правильны…»
Признание настоящего художника.
12
Запись в записной книжке. Архитектор В. И. Стасов (1769—1848). К жене:
«По свойству моему, или, лучше сказать, по моей натуре, мне нужно для исправления моей должности по моей профессии совершенное спокойствие духа, без которого я не только с честью, но и с успехом упражняться не могу, а потому прошу, так как от должности моей зависит все благополучие наше и наших детей, оставлять меня, когда я в кабинете, в совершенном покое».
Фадеев приписывает:
«Старик был прав, о как он был прав!»
А сколько еще художников могут подписаться под этими словами!..
13
Однажды я отправился покататься на лыжах. Кружила легкая метелица. Я прошел мимо дач Федина, Пастернака, Вс. Иванова, спустился к «святому» колодцу, перешел Сетунь и поднялся на противоположный бугор ложбины.
Здесь был трамплин, и мы часто прыгали с него.
Было тихо и пустынно. Я скатился несколько раз с горы, потом поднялся на нее и, опершись грудью на палки, стоял и смотрел на кружащийся в вихре снег, — на него можно смотреть неустанно, как на огонь.
И вдруг в порыве ветра донесся крик:
— Я-а-а-а!.. стя-а-а-а!..
Я огляделся — нигде никого.
Но опять то глуше, то отчетливее:
— Ось-тя-а!
И, наконец, ясно:
— Кос-тя-а-а!
Я повернулся точно на крик и увидел сверху через кустарник вдоль Сетуни — на задах фадеевской дачной усадьбы — его, Александра Александровича, в белом полушубке, а рядом с ним еще фигурку, «заснеженную, как рукавичка». Наверное, это была его жена. Он махал рукой в мою сторону и кричал: «Кос-тя-а!» Вероятно, он думал, что это катается Константин Симонов, — он жил на даче, возле переделкинской церкви.
Я сложил рупором ладони и крикнул Фадееву: «Это не Костя!» Видимо, ветер донес мои слова, и Александр Александрович перестал кричать, но стал показывать рукой, чтоб я скатился с горы.