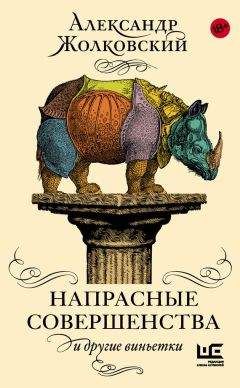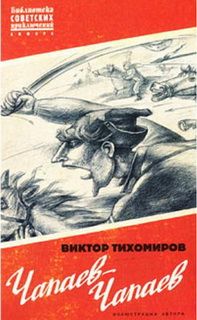А рассказ Льосы даже забавнее, чем он думает. В нем есть интригующие зазоры.
Первый – в том, как писатель на одном дыхании говорит о своей искренней симпатии к Советскому Союзу и радостном ожидании советского издания и тут же об удивлении-возмущении по поводу постигших его текст кастрационных купюр. Звучит все это очень влюбленно и благородно, но чем благороднее, тем ведь подозрительнее. Чего-то он недоговаривает или недодумывает.
К моменту опубликования его романа на родине (1963), да и выхода в СССР (1965), Льосе (р. 1936) не было тридцати. Как человека такого возраста его можно понять – молодо-зелено. Труднее понять его как писателя, интеллектуала, социального мыслителя. Удивляет не столько шок от кромсания авторского текста редакторами, сколько явное неумение автора читать завороживший его советский дискурс. Полагаю, что ослепленный любовью, он невнимательно читал и издательский договор, написанный людьми, прекрасно понимавшими, с кем имеют дело. Так что, и правда, бесполезняк дергаться.
Но в общем-то, Льоса отделался легким испугом. Времена были уже вегетарианские. Вот Горькому, Цветаевой, да и Прокофьеву, пришлось хуже. Потому что Сталин читал их правильно, а они его кое-как. В отличие, скажем, от Пастернака, который не зря верил в знанье друг о друге предельно крайних двух начал.
Но вернемся к Льосе и его горячей молодости. С тех пор – хотя и не сразу, а лишь через полтора десятка лет – он успешно разочаровался в коммунизме. И читаем мы не его юношескую исповедь, а пост-анализ зрелого man of letters (литератора). Однако удивление, перерастающее в сарказм, – все то же: молодежное, энтузиастическое, оскорбленное в лучших чувствах. Как будто виноваты только коварно обманувшие его “они”, а не он, который, как и всякий влюбленный, был сам обманываться рад.
Второй зазор связан со сценкой у главного редактора издательства. По ее внешнему сюжету симпатичная молодая женщина-главред вешает на уши возмущенному автору неудобоваримую лапшу, которую он с презрением мысленно отметает. Молодость и женские чары редакторши призваны гротескно оттенить циничную абсурдность ее пуританской аргументации по волнующему вопросу.
Это на поверхности. А в глубине, сквозь соблазнительную недоговоренность, мне видится другое. Знойные 1960-е… Будучи приблизительным сверстником пламенного перуанца и немного зная советских редакторш, я не могу не дать воли своему воображению. И оно рисует картины, которые резали бы глаз разве что совершенно уж безнадежно супружеским парам.
Зазор третий – последний. Из интервью вроде бы получается, что “симпатичная молодая женщина” и есть главный редактор издательства. Но простого обращения к Википедии достаточно, чтобы установить, что главным редактором “Молодой гвардии” в те годы (и еще долго: в 1962–1974) был тот самый В. О. Осипов, из воспоминаний которого взята эта история. И вот под каким заглавием и соусом она им – в 2003 году – подана:
“40 СТРАНИЦ АНТИТРАДИЦИЙ
1968. Вышел с добрыми откликами читателей роман «Город и псы» замечательного перуанца Марио Варгаса Льосы.
Спустя четверть века прочитал в «Комсомольской правде» интервью – характерный штрих в биографию советского книгоиздания: «С вашей страной у меня связано…».”
И далее по тексту, см. выше.
Помимо прочего, пушкинское “Я вас любил…” примечательно своей, выражаясь по-современному, открытостью к Другому:
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим…
Но “другость” здесь, конечно, очень ограниченная. Повсеместный в русском языке грамматический род, grammatical gender, не оставляет сомнений в половом раскладе этого треугольника: “Я” – м. р. (любил), “Вы” – ж. р. (любимой), “Другой” – м. р. (другим[76]).
Зато при переводе на грамматически бесполый английский (откуда, наверное, приемлемость гендерной революции для его носителей) сексуальная определенность ситуации размывается:
I loved you so sincerely, so tenderly,
As God grant to you to be loved by another.
Подставляй треугольники, какие хочешь… Получается действительно другое. Чтобы почувствовать это другое, эту нейтрализацию, вернее вариабельность, пола, хорошо бы вообразить себе соответствующий обратный перевод на русский.
Как известно, у “Я вас любил…” есть огромное поэтическое потомство, целый калейдоскоп упражнений на его темы. Среди них – ранний хит Наума Коржавина (1945):
Предельно краток язык земной,
Он будет всегда таким.
С другим – это значит: то, что со мной,
Но – с другим.
А я победил уже эту боль,
Ушел и махнул рукой:
С другой… Это значит: то, что с тобой,
Но – с другой.
В ключевых строках гендерное равноправие почти идеально: концовки обеих строф могут читаться и как гетеросексуальные, и как гомосексуальные. С той оговоркой, что хотя бы для одного из партнеров грамматика задает в первой строфе мужской род (с другим… с другим), а во второй – женский (с другой… с другой).
Ну и, конечно, подводит начало второй строфы, с традиционно мужским лирическим эго. Избавиться от этого можно (с маловероятного позволения Коржавина), прибегнув, например, к безличному инфинитивному письму.
Предельно краток язык земной,
Он будет всегда таким.
С другим – это значит: то, что со мной,
Но – с другим.
*Пора уже победить эту боль, —
Уйти и махнуть рукой:
С другой… Это значит: то, что с тобой,
Но – с другой.
Шекспир с Кузминым отдыхают…
Кстати, о Кузмине. Позволю себе небольшой каминг-аут, “выход из клозета”, но не в сексуальном смысле (тут я неисправимый натурал[77]), а в литературном. Некоторое время назад я напечатал, под полупрозрачным псевдонимом и в сопровождении еще более прозрачной “Справки об авторе”,[78] рассказ “После лыж. Из дневника женщины”, с густым мультигендерным сюжетом и множеством кузминских аллюзий. Славы вымышленному автору этот опус, однако, не принес, так что настало, пожалуй, время катапультировать его из рискованной творческой сферы (где как-никак нужен талант) в безопасную академическую.