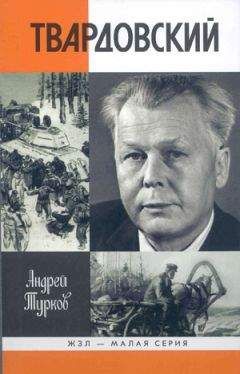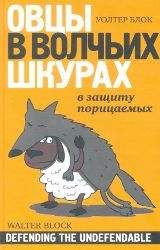На секретариате ЦК было принято постановление, внешне выглядевшее как ослабление и чуть ли не отмена цензуры, но Твардовским сразу воспринятое «лишь как дополнительная форма зажима». Слова о «повышении ответственности редакторов и организаций, органами которых являются издания», по его мнению, означали, что журналам определен «в дядьки» Союз писателей, практически секретариат правления СП. А цензурные инстанции оставались живехоньки, только главным образом обязывались заботиться о сохранении военной и государственной тайны.
«Все-таки, значит, могут заниматься и не одной охраной тайн», — умозаключил Кондратович, больше других имевший дело с пресловутым Главлитом. Дальнейшее показало, что Алеша был прав: вынужденные «контакты» со старыми знакомыми, весьма язвительно охарактеризованными в его дневнике, ничуть не ослабевали.
Что касается «ответственности организаций», то на очередном после постановления заседании писательского секретариата, как насмешливо сказано в рабочей тетради поэта, «все начали доказывать с горячностью друг другу, что Секретариат не может и не должен читать — иначе ему некогда будет работать — и не должен брать на себя ответственность, которая есть привилегия самих журналов, их редакций».
«Прошло всего неск<олько> месяцев с той так назыв<аемой> реформы положения о цензуре — и все, как и следовало ожидать, возвратилось к прежнему порядку, — записал позже Лакшин. — Редакция бесправна, Союз писат<елей> — безучастен, а малейшее сомнение цензура решает, передавая материалы, как это и бывало прежде, в Отдел (ЦК. — А. Т-в). Новость только та, что происходит это перекидывание материалов в еще более густой неопределенности и тайне».
Было ясно, что «ответственное» руководство Союза писателей будет и дальше послушно следовать подсказке сверху. А за ней дело не стало.
Двадцать пятого января 1969 года Воронков записал: «Звонил К. А. Федин. Сказал, что сегодня более четырех часов провел в отделе ЦК КПСС. Состоялась очень интересная и важная беседа по многим вопросам литературным и о делах Союза писателей». Подробности дневнику доверены не были, хотя, судя по новой записи 10 февраля, «К. А.» говорил, что «прежде всего, стоило бы просмотреть редакционные коллегии, укрепить кадры».
Словом, не в результате ли «очень интересной» беседы в ЦК Твардовскому в марте было предложено пополнить редколлегию уже намеченными секретариатом персонами? Среди них значились не только просто неизвестные поэту люди, но и слишком хорошо знакомые, совершенно одиозные фигуры вроде «отличившегося» как во время травли «Литературной Москвы», так и в «деле» Синявского и Даниэля Дмитрия Еремина, и те, чьи книги резко критиковались на страницах журнала (Владимир Чивилихин), и совершенные ничтожества, зато «с прекрасным повеленьем», как «активная общественница» Лидия Фоменко, всегда действовавшая «с верным прицелом», как называлась хвалебная рецензия на одно ее сочинение.
Твардовский категорически не согласился на такое «укрепление» и настаивал на возвращении в редколлегию Дементьева и утверждении своим заместителем Лакшина, который уже фактически исполнял эту обязанность и в котором Александр Трифонович видел своего преемника.
Давление на журнал усилилось. 5 марта «Литературная газета» поместила — с соответствующими комментариями — письмо очередных «земляков» (вспомним историю с яшинской «Вологодской свадьбой»!) — на сей раз магнитогорцев, которые «глубоко возмущены» повестью Николая Воронова «Юность в Железнодольске». (Они — а по правде, те, кто подбивал их на «протест», — еще раньше пытались прервать эту журнальную публикацию.) На следующий же день «Правда» не только поддержала «Литгазету», но напомнила, что «Новый мир» уже неоднократно подвергался критике, и подытожила: «Общественность вправе ожидать, что редакция… наконец сделает верные выводы из этой критики».
«Меня встречают, звонят мне, — записал несколько дней спустя Кондратович, — и я видел, слышу соболезнования, сочувствие. Так говорят с безнадежно больными, с теми, кому вот-вот умирать».
— Наступают последние времена, — сказал и Твардовский, «крупно», не стесняясь в выражениях, поговорив с заведующим отделом печати ЦК А. Беляевым.
Тем временем «Литературка», как ее называли в обиходе, перенесла огонь на новомирскую критику, а позже на новую повесть Василя Быкова «Круглянский мост».
«Укрощенный» же Главлит снял статьи о Чернышевском, об экономической политике нэповских времен и о борьбе большевистской партии… с царской цензурой. («Есть аналогии», — сказал глава советской.)
Но Твардовский «выводов» все не делал! И тогда, наконец, 14 мая Воронкова уполномочили передать ему предложение подать в отставку…
«Посол» сказал, что это предложение отдела ЦК согласовано с Демичевым, намекал на всякие беды, которые могут последовать в случае непослушания, и посулил отступное — 500 рублей в месяц как одному из секретарей правления Союза писателей, без необходимости появляться на «рабочем месте».
Неизвестно, помнили ли соблазнявшие поэта этой щедротой строки из книги «За далью — даль», где он, говоря о пугающей возможности (впрочем, для него-то совершенно гипотетической!) утратить доверие читателей, с горестным сарказмом заключал:
Тогда забьюсь в куток под лавкой
И затаю свою беду.
А нет — на должность с твердой ставкой
В Союз писателей пойду…
Это были страшные дни. Давно надорванный многолетней, постоянной борьбой, поэт заколебался и, оказавшись во власти своего старого злого недуга, готов был счесть дальнейшее сопротивление безнадежным («Насильно мил не будешь», — повторял Александр Трифонович).
В ту пору, встретившись со мной, он «вдруг» сказал:
— А вы, Андрей Михайлович, мало написали о конце «Отечественных записок»! — имея в виду книгу о Щедрине.
А думал-то о судьбе собственного детища, трагически напоминавшей мытарства «предка».
И сам был истерзан, как его великий «коллега», еще до запрета «Отечественных записок» (получавших одно цензурное предупреждение за другим) производивший, по словам современника, «впечатление какого-то судна с разорванными парусами и снастями, перенесшего только что жестокую бурю».
Дело было в Пахре. Я пошел проводить Александра Трифоновича. Идем, разговариваем, сворачиваем на улочку, где стоит его дача, и вдруг он резко останавливается: смотрю и вижу черную «начальственную» «Волгу». Видно, опять по его душу незваные гости с уговорами!