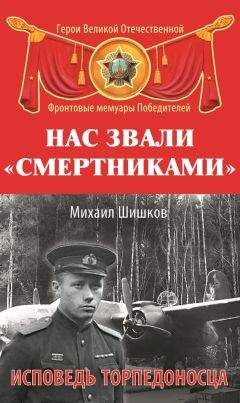Запускаю моторы, проверяю их работу. Все вроде нормально. Но температура головок цилиндров растет с удивительной быстротой. И это — на месте. А что будет дальше?
Через силу одолев в себе предубеждение против чужих машин, со стрелкой на красной черте выруливаю на полосу в надежде, что в воздухе моторы охладятся. Набираю скорость, уже поднят хвост. И вдруг... Скорее чувствую, чем слышу, противный хлопок под фюзеляжем...
Пройдено больше половины полосы, впереди — обрыв над морем. Сколько надо метров, чтобы погасить скорость? Или идти на взлет? Мелькают кусты, деревья — спрессованные мгновения жизни. Что значит хлопок?..
По тому, как самолет вдруг потянуло вправо, догадываюсь: лопнула камера колеса. Полностью убираю обороты левого мотора, правому оставляю взлетную мощность. Тяга в сторону ослабевает, бег замедляется. Самолет накренивается, ползет юзом, чертит по земле крылом, останавливается. Выключаю моторы и вдруг вспоминаю об огромной мине под фюзеляжем... Машина легла на нее! А за секунду до этого [320] тяжеленная «гейро» черкнула взрывателем по полосе...
Выскакиваю из кабины, кубарем скатываюсь по уткнувшемуся в землю крылу, бегу прочь. Инстинктивно оглядываюсь и вижу: винты продолжают вращаться. Моторы не выключились. Из-за перегрева!
Бегу обратно, вскарабкиваюсь по крылу в кабину, пожарным краном перекрываю бензопроводы...
Отбежав сколько надо и убедившись, что экипаж тоже покинул машину, жду. Взрыватель в мине сложный — контактный, с выстреливающими гальваноударными колпаками — бог его знает, как может сработать.
Пожара, к счастью, нет.
Минута, другая, третья... Нет и взрыва.
Ну что тут сказать? Не хватает полковника Токарева. Невольно оглядываюсь на дорогу. Ну вот так и есть — «эмка». «И как это ты, Минаков, умудряешься...»
А как? Сколько раз клялся себе — не летать на чужих машинах. Рок есть рок. Но и приказ есть приказ...
К счастью, «эмка» на этот раз оказалась подполковника Канарева. Командир полка вышел, неторопливо оглядел самолет, мину. Отдал распоряжения инженеру.
Потом обернулся ко мне:
— Через час Саликов вылетает, вам по пути. Захватит ваш экипаж. Документы в штабе оформят сегодня же, я распоряжусь. Вам, конечно, в Минводы? А вам? — обернулся к Прилуцкому.
Тот молчал.
— Да, у вас еще... Ведь вы из Житомира? Может, в дом отдыха? Думаю, если комдив попросит...
Николай мялся, опустив тяжелые плечи, глядя на пыльные носки ботинок.
И вдруг меня осенило — в который раз за последние полчаса.
— В Минводы! И ему тоже! [321]
Николай поднял глаза, с удивлением поглядел на меня.
— Решено, — утвердил Канарев. — Говорят, девушки там у вас хороши! Найдешь, Минаков, и ему невесту?
— Он женат, товарищ подполковник!
Командир явно смутился.
— Ну, ну, извини...
Теперь, воскрешая в памяти святые имена тех, кому в разное время и при разных обстоятельствах мне пришлось быть обязанным жизнью, я с благодарным, годами ничуть не приглушенным чувством вспоминаю и замполита Аркадия Ефимовича Забежанского, человека, с которым ни разу не побывал под губящим зенитным огнем, под злыми очередями «мессеров», даже не поднимался в воздух в одной машине.
А жизнь он мне спас — это ясно, как день.
И не мне одному, а и верным друзьям моим Николаю Прилуцкому, Коле Панову, Саше Жуковцу — всей нашей маленькой дружной семье, связанной насмерть одной судьбою.
Да, были случаи, не всегда удавалось нашим самоотверженным техникам, даже и инженерам вовремя распознать не приметный ни глазу, ни уху признак «усталости» в такой сложной, большой машине, каким был наш «крылатый линкор». Каким же глазом, каким чутким сердцем надо было обладать инженеру человеческих душ и — продолжая классическое сравнение — человеческой «материальной части», чтобы угадать и почувствовать то, чего не успел до конца ощутить и сам летчик!
А что «матчасть» наша с Колей Прилуцким была на последнем пределе, в этом мы убедились в первый же день пути. Как ни оглушительна была радость от неожиданного подарка судьбы, ни соблазнительны рисовавшиеся [322] в воображении картины, как ни пьянило нас чувство свободы, — всего этого нам хватило лишь на часы. С энтузиазмом втиснувшись в первый попавшийся поезд в Сухуми, мы как-то вдруг сразу обмякли, начали откровенно клевать носами и, уж не помню как, я очутился под самой крышей вагона, на узенькой третьей полке, а габаритный мой штурман попросту развалился внизу на полу на чьих-то узлах и баулах. И никакие толчки и пинки спрессованных, точно в консервной банке, попутчиков, броски и качки разболтанного вагона не смогли вернуть нас к действительности в течение чуть ли не суток...
В Тбилиси подвела ориентировка — не поприветствовали патруль. К счастью, все обошлось. Пожилой подполковник, помощник коменданта, возвращая нам документы, лишь пробурчал недовольно: «Спите на ходу...» И поглядел не на нас, а на ретивого капитана, который, скорей всего, ждал от него похвалы...
Ехали...
Ехали и сидели, ждали пересадки в Тбилиси, ждали в Баку, «загорали» в Махачкале и Грозном и, кажется, даже в Моздоке. Пассажирские составы то ползли, как покалеченные гусеницы, то вдруг схватывались, «нагоняли», вновь принимались считать столбы... Разбитые вокзалы, дотла выгоревшие пристанционные поселки, свежезалатанные насыпи, сшитые на живую нитку пути, цистерны с мазутом, бензином, платформы с пушками, танками, санитарные поезда с ранеными, настежь распахнутые зевы теплушек, переборы гармошек, клочки песен и плача, красноармейцы и новобранцы, и женщины, женщины, женщины — в белых платках и темных, в спецовках и сарафанах, с лопатами и костыльными молотками, с мотыгами и граблями, с мешками, узлами, орущими ребятишками...
Ехали... Просыпались и засыпали, жевали сухой паек [323] и хлебали щи на продпунктах и ни о чем не говорили, не вспоминали, и будто забыли, куда и едем...
И вот...
Сколько их намелькалось, на этом пути и в жизни, стандартных присемафорных будок, краснокирпичных, со стертой побелкой, с шашечками-углами, безликих, неразличимых, казалось бы, даже на спор...
— Проснись, Николай!
* * *
Как же он дорог, родной порог, человеку! Вечное детство за ним, кладовая безбрежного счастья, ласка родительских рук и тепло очага, праведный суд и от всех бед защита. Юность с тревожащими мечтами, с дерзостью, распирающей грудь, и застенчивостью бессильной, с дружбой ревнивее, чем любовь, и любовью скромнее, чем дружба...
В буквальном смысле — порог. Стертый приступок из самой отборной ели — вязкой и водостойкой, со скрученными слоями, — чтоб прежде времени не погнил, не смочалился на волокна, а вместе с домом старел, храня память о людях, в нем живших. Вот она, память, — плавный рельеф, наподобие скобки фигурной, из-за сучка посредине, твердого, как «чертов палец», — от заступавших его каблуков и подошв. Плотной резины — «казенных» сапог отцовских, легонькой микропорки дешевых маминых туфель, войлока бабушкиных опорок, снова и снова резины — разноразмерных калош. И — наконец — натуральнейшей кожи! Дубленых пяток — братниных и...