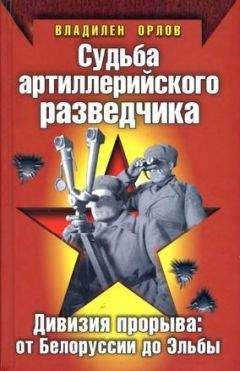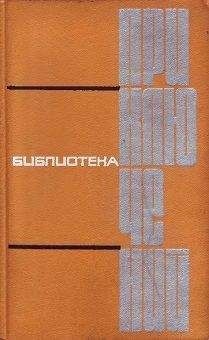В штабе незадолго до Нового года я познакомился с Левой Мечетовичем, нашим бригадным фотографом. Он оказался тоже москвичом и жил, как оказалось, рядом со мной: я на Арбате, а он в Староконюшенном переулке. Мы сразу же нашли общий язык, обменялись домашними адресами и подолгу вспоминали наш Арбат с его переулками, нашу довоенную школьную жизнь и строили планы на демобилизацию. Лева имел отдельную комнату на мансарде штаба, сплошь уставленную фотоаппаратурой и ящиками с фотоснимками. По моей просьбе он пытался найти мои фото, сделанные еще на Магнушевском плацдарме под Варшавой, но нигде их не обнаружил. Очевидно, их уничтожили или потеряли еще тогда, перед наступлением на Варшаву. В войну всякая информация о части после использования подлежала немедленному уничтожению. Напомню, что под страхом наказания вплоть до штрафной роты категорически запрещались дневники, запрещались всем, от офицера до солдата. За этим бдительно следили особисты полка. Поэтому так мало личных записей того времени.
Новый, 1946 год мы встречали вдвоем с Левой, запершись в его комнате и включив трофейный приемник. С боем кремлевских курантов клюкнули разбавленного спирта, закусили немудреной закуской и почувствовали себя на седьмом небе. Дальше пошли воспоминания и разговоры. Впервые для меня было ощущение праздника, сдобренное предчувствием скорой демобилизации.
Перед Новым годом нам в битком набитом гарнизонном клубе показали очень веселое кино, помнится, английскую картину «Тетушка Чарлея». Вообще, демонстрировавшиеся нам картины почти сплошь были трофейные с титрами на русском языке (запомнилась немецкая «Серенада солнечной долины») или киноленты союзников (американские и английские), которые они пересылали в нашу страну. С удовольствием смотрели довоенные комедии с Любовью Орловой, а военные фильмы недолюбливали, уж больно все прилизано, бравурно и, главное, не соответствовало действительности.
При вступлении в Германию отношение к немцам было враждебное, в лучшем случае настороженное. В каждом немце видели противника, врага, чуть ли не личного, который вольно или невольно способствовал приходу Гитлера к власти и тем самым был причастным к неисчислимым бедам, свалившимся на нашу страну, на каждую семью, на всю Европу. Унизить и даже ограбить немца не считалось преступлением. Немцев ненавидели все народы Европы. Я часто задумывался, до чего может довести цивилизованную нацию группа негодяев, пришедшая к власти, правда, легитимно, без давления, избранная самим народом.
Особенно следует отметить грабежи населения, принявшие большой размах при вступлении наших войск в Германию.
Прямой грабеж сводился обычно к отъему часов, реже сапог. Особенно это практиковалось во время вторжения в Германию и в первые недели после окончания войны. Правда, таких случаев на моих глазах было мало, но они были и оставляли, не только у меня, неприятный осадок. Сбор шмоток для посылок в занимаемых городах и поселках не считался грабежом, так как вещи собирали в брошенных домах, которые впоследствии, как я уже отмечал, все равно сгорали. Более того, такой сбор, как я выше писал, был прямо санкционирован свыше («…все, что оставлено или брошено на занятой в Германии территории, кроме оружия, считается трофеями…»). Однако такое расширительное понятие трофеев при враждебном отношении к немцам привело в конце войны и в первое время после ее окончания к ограниченным по масштабам, но настоящим грабежам. Этому способствовали разные обстоятельства. Передовые части, которые непосредственно вели боевые операции, не имели возможности «складировать» трофеи, т. е. брошенное имущество. Правда, старшины и прочие тыловые части обладали такой возможностью, и офицеры, и частично солдаты оставляли трофеи как на своих, так и на «старшинских» машинах и повозках. Но возможности здесь были ограниченны («для всех места не хватит»).
После окончания войны грабежи приняли такой размах, что власть издавала специальные приказы по этому поводу, в которых всем пойманным грозили самые суровые наказания, вплоть до расстрела. Приводились чудовищные примеры. Запомнился один из них, особенно отвратительный.
В Венгрии было мало наших сторонников. Венгры воевали на стороне немцев почти до конца войны. Наши военные и местное население относились друг к другу настороженно, а иногда враждебно (в отличие от всех освобожденных стран и даже от самой Германии). Многие из нас считали венгров такими же, как и немцы, врагами, фашистами. Церковь очень редко шла на сотрудничество с нашими оккупационными войсками. Однако нашелся один(!) авторитетный среди населения священник из высшей иерархии, кажется епископ, который ненавидел фашизм и по велению сердца, а не по принуждению, читал в разных местах проповеди, осуждающие гитлеризм и его последователей в Венгрии. Он пытался рассеять враждебные настроения и наладить дружбу с нашим народом.
Однажды он уехал из своей резиденции на очередную проповедь. В его отсутствие к нему в дом пришел сержант или старший сержант с автоматом, изнасиловал и убил дочь священника, его жену и «в дополнение» ограбил дом. Сержанта нашли, прилюдно судили и приговорили к расстрелу. Но каков был резонанс среди населения!
Конечно, это из разряда единичных случаев, но более «гуманных» случаев отъема вещей, особенно в конце и сразу по окончании войны, было порядочно, особенно со стороны тыловых служб, которые двигались вслед за передовыми частями. Правда, следует отметить, что они и не носили массового характера и мало чем отличались от поведения немецких войск у нас в России. Вот несколько известных мне сценок.
Война еще не кончилась. Через немецкий городок прошли наши передовые части, и, когда все успокоилось, немецкие семьи вернулись в свои дома. В одном доме у оживленной трассы немецкая семья из 4 человек (двое престарелых и пара ребятишек) сидели за трапезой. Вдруг у дома остановилась грузовая машина, и из нее вышли трое: офицер (кажется, капитан) и два солдата. Они направились в дом. Им открыли (попробуй не открыть!), и офицер с солдатом зашли в столовую, где за столом сидела вся семья. Второй солдат стал у двери. Семья замерла на месте. «Гутен тах», — произнес офицер, дал знак всем сидеть и стал обшаривать комнаты, не обращая внимания на сидящих за столом хозяев. Офицер с помощью солдата вытащил два или три чемодана, вытряхнул их и стал набивать приглянувшимися вещами. Набив чемоданы, он обошел сидящую молча за столом семью, отбирая у них часы. Затем, произнеся «Ау фидерзейн» (до свидания), он с солдатами покинул дом и удалился на машине.
Война кончилась. Мы только что переехали в Ратенов. Многие фронтовики увидели, что у них нет никаких трофеев, тогда как у тыловиков (старшины, ремонтники и другой обслуживающий персонал) кое-что припасено, у кого больше, у кого меньше, но припасено, а у них ничего нет. Часть фронтовиков, правда небольшая, сочла это несправедливым и занялась форменным грабежом. В одной батарее несколько солдат и сержантов, осознав, что у них нет «трофеев», занимались грабежом квартир, обычно во время патрулирования. Облюбовав дом или квартиру, они стучали с криком «Откройте, патруль, проверка!» и, зайдя к перепуганным немцам, грабили квартиру. Офицеры смотрели на это сквозь пальцы, а нередко прямо поощряли, отпуская на «задание» своих подчиненных и оговаривая долю для себя. Правда, при этом предупреждали, что, если кто попадется, выручать они не будут, да и не смогут. Командование пыталось переломить эту тенденцию. Помимо грозных приказов, переформировывались подразделения и целые части, чтобы разрушить сложившиеся в войну коллективы, ликвидировать круговую поруку.