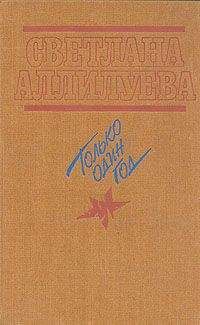Учитель видел, что я в растерянности. Я призналась ему:
«Мне кажется, что я наблюдаю жизнь здесь, как на экране. Я смотрю на нее, она мне нравится, но у меня такое чувство, что я не могу войти в этот экран. И я боюсь, что никогда не смогу…»
«Нет, нет, это пройдет», – говорил он, стараясь заставить меня верить в собственные силы. – «Это пройдет! Я понимаю. Я знаю как вам тяжело думать о детях. Но, поверьте, у вас будет здесь столько друзей!»
Он привез мне из Нью-Йорка фортепианный концерт Брамса, наладил новый проигрыватель в гостиной, и мы слушали музыку, сидя молча, думая каждый о своем. Мы слушали Моцарта, Шумана, прелюдии Баха. Он не знал как развлечь меня, купил мне импровизации на ситар Рави Шанкара, разыскивал одну песню Нат Кинг Коль, которую мне хотелось найти.
Старшая дочь Джонсона, сестра Присциллы, жила недалеко с мужем-врачом и детьми подростками. Она была стройная, как девочка в своих желтых брючках. Ее дом был современным, его простота – изящной и уютной. На ее лице всегда была улыбка – естественная, не наигранная.
Это великолепное качество здешних женщин – они не обременяют вас своими проблемами и несчастьями, – хотя у каждой есть, наверняка, и проблемы и несчастья. Она водила меня в местные магазины, потом купила мне платья и мелочи сама, – мне было лучше не показываться на глаза публике.
Она порхала как легкая бабочка – ей было за сорок, но нельзя было бы догадаться об этом; была приветлива и никогда не расспрашивала ни о чем. Это было, пожалуй, сейчас самым добрым, самым лучшим отношением ко мне: не расспрашивать.
Я ездила два раза в Нью-Йорк в гости к Алану Шварцу и его жене Паоле. Там нас немедленно сфотографировал репортер прямо у лифта. Паола выглядела 18-тилетней, а ей было уже тридцать. Она была грациозна, умна и ловко управлялась с двумя бесенятами-сыновьями, хозяйством и молодым мужем, очевидно, передавшим свой характер неугомонным сыновьям.
Наконец мне удалось повидаться с Ашоком – сыном Суреша Сингха, тем самым Ашоком, который жил в Сиеттле с женой-голландкой и работал в Боинг Ко. Мы созвонились однажды по телефону, потом он прислал письмо, и наконец прилетел на Лонг Айленд.
Ашок оказался милым молодым человеком, по-восточному учтивым, по-западному свободным и естественным. Мы целый день просидели с ним в гостиной м-ра Джонсона возле камина, говоря о его родителях и о Калаканкаре, о возможности строительства там больницы.
Когда в доме м-ра Джонсона узнали, что ко мне приедет в гости «индийский родственник», Мария спросила, что он будет есть, и осторожно осведомилась, будет ли он сидеть на полу и носит ли тюрбан и бороду. Красивый, учтивый молодой человек очаровал ее. Он хвалил ее печение, болтал с нею и с кухаркой и, наконец, сфотографировал их обеих и всех остальных, кто был в доме. Когда он уехал, Мария сказала: «Это – настоящий джентльмен!»
Как-то, в конце мая, я проснулась ночью на своей «викторианской» кровати. Предрассветная свежесть дышала в окно. Где-то лаяли собаки. Пахло росистой, холодной травой. И оглушая, не давая перевести дух, путая все в голове, лился в окно винный дух сирени. В траве ландыши, в доме всюду ландыши, а возле дома огромные, как лиловые стога, кусты цветущей сирени.
Нет, это не Подмосковье, не Жуковка, – хотя вполне возможно ошибиться: там сейчас ландыши, сирень, ночной лай собак…
В этом странном 1967-м году, начавшемся возле Ганга, весна встречала меня три раза, как бы в возмещение всех печалей и утрат.
Первая наступила в Индии в конце февраля, и ее приход было трудно заметить. Как и «зимой», продолжали цвести розы и гладиолусы, по ночам так же звенели цикады. Но в один прекрасный день на манговых деревьях среди темной, жесткой листвы появились незаметные метелочки цветов: это и означало приход весны.
И сразу же все вокруг стало молниеносно покрываться цветами – каждый кустик, каждая веточка. На вечнозеленых кронах выступили свежие листочки, и осыпались отмершие. И не осенью, как на севере, а весной по всей террасе шуршали сухие листья и ветер сметал их в кучи. Не было привычного для северной природы весеннего пробуждения природы, потому что жизнь течет здесь плавно и вечно, как Ганг, не засыпая на зиму. Обновление наступит в середине лета, после того, как пройдут муссонные ливни. А весна в Индии бежит быстроногой девчонкой, звеня браслетами, а ей в спину уже дышит, как раскаленная пустыня, пыльное пекло лета.
Вторая весна пришла в Швейцарии, в конце марта. Здесь началось знакомое, весеннее возрождение жизни. В маленькой мирной Швейцарии весна тоже была уравновешенной, спокойной и уверенной в себе. Она подходила не торопясь, не пугаясь последних снежных буранов, засыпавших снегом темнолиловые фиалки и подснежники. Она знала, что возьмет свое. Через пол дня снег таял, пригревало солнце и как ни в чем ни бывало желтела форсития и пробивались из-под земли гиацинты. Опять заволакивало небо тучами, опять выл ночью ветер, но утром ярко синело небо… И было так радостно ощущать это неудержимое круговращение природы, и невольно душа оживала вместе с нею.
Когда я уезжала отсюда в апреле, весна была в полном разгаре. Последний раз дорога в Цюрих провожала меня розовыми дикими вишнями и цветущим миндалем, кипела белая пена яблонь. Это был прощальный привет Швейцарии, обещавший удачную дорогу. Как дорожные знаки стояли на моем пути эти цветущие деревья, и такой осталась в памяти милая, маленькая страна.
Но на Лонг Айленде в конце апреля было холодно, ни листьев, ни цветов. Лишь в середине мая весна пришла сюда, оглушив своей яркостью и неожиданностью.
Американская весна была похожа на эту страну своим изобилием и богатством, она захлестывала как половодье. В этом году ее надолго задержал холодный апрель. И после долгих задержек, вдруг бурно расцвело все сразу, и это было как во сне, неправдоподобно.
Пылали, как огонь, азалии. Белые догвуды стояли в лесу, как невесты. Эти деревья всех розовых и пунцовых оттенков были новостью для меня – их нет в Европе, их нельзя перевозить на другие континенты. Белые и розовые магнолии, желтоватые рододендроны, все это прекрасно уживалось рядом с обыкновенной нашей сиренью и ландышами – российскими символами весны. Только не было здесь черемухи, и никто не знал английского ее названия.
По всему белу свету цвела и благоухала весна.
«…– Весна была весною даже в городе. …Веселы были и растения, и птицы, и насекомые, и дети. Но люди – большие, взрослые люди – не переставали обманывать и мучать себя и друг друга. Люди считали, что священно и важно не это весеннее утро, не эта красота мира Божия, данная для блага всех существ, – красота располагающая к миру, согласию и любви, а священно и важно то, что они сами выдумали, чтобы властвовать друг над другом».