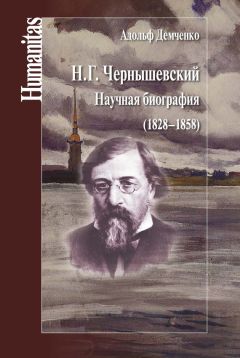Христианское веропроповедничество Г. И. Чернышевского среди раскольников и язычников продолжалось и в последующие десятилетия и особенно интенсивно при епископе Иакове, правившем саратовской епархией в 1832–1847 гг. Делом особой важности считал Иаков борьбу с расколом на Саратовщине и прибегал нередко к самым жестоким полицейским преследованиям упорствующих иноверцев. Как лицо подчинённое Гаврила Иванович участвовал вместе со своим родственником протоиереем Ф. С. Вязовским во многих экспедициях Иакова.[76] Однако суровость административных мер зачастую не вызывала в душе обоих протоиереев полного согласия. «Они оба, – писал Н. Г. Чернышевский, на глазах которого протекала миссионерская деятельность отца, – были люди искренно-верующие, конечно; но люди, не делавшие дурного. Через их руки проходило много дурных дел; они смягчали их, уничтожали их, сколько могли. Мало могли; мало; архиерей (Иаков) был осёл-фанатик; впрочем, даже и это не очень важно было; но дела о расколах, о ересях возникали и велись помимо архиерея и помимо всей духовной администрации саратовской епархии, и мало могли делать в защиту раскольников и тому подобных людей Фёдор Степанович и мой отец; но, что могли, делали» (XV, 250). Авторитетное свидетельство сына многое объясняет в характере этой стороны деятельности Гаврилы Ивановича, начало которой было положено в первые же годы его восхождения по ступеням церковной иерархии.
В послужной формуляр Г. И. Чернышевского в 1828 г. сделаны ещё два вписания. «Мая 21 по предположению преосвященного Иринея, данному Пензенской духовной консистории, определён саратовским градским благочинным» – эту новую и очень почетную должность он исправлял 15 лет. Благочинный являлся прямым посредником между архиерейской властью и священниками города, и его первой обязанностью было наблюдение за поведением и нравственностью священнослужителей. Весьма показательно для характеристики Г. И. Чернышевского, что его назначение благочинным городских церквей состоялось вскоре после специального царского повеления (от 17 марта 1828 г.): «В благочинные выбирать священников примерного поведения, недеятельных из них немедленно удалять».[77]
В том же году (30 декабря) Г. И. Чернышевский назначен членом духовной консистории – высшего епархиального органа власти. Таким образом, в год своего 35-летия Гаврила Иванович получил самые высокие и почётные для священника посты, какие только существовали в епархии. Оставалась лишь должность кафедрального протоиерея, но и её он получит в 1856 г., после смерти Ф. С. Вязовского.
Назначение присутствующим в духовную консисторию было особо памятным, так как состоялось в день открытия саратовской епархии и её основных учреждений – духовной консистории, епископской кафедры со штатом архиерейского дома и кафедрального собора.[78] Кроме того, ему была поручена благодарственная речь, которую он произнёс на торжественном церемониале открытия епархии в присутствии первого саратовского епископа Моисея, губернатора А. Б. Голицына, почётных граждан города, многочисленных чиновников и священников.[79] Одновременно с Чернышевским членом консистории стал Ф. С. Вязовский, в то время состоявший на священнической вакансии Александро-Невского собора, а несколько позднее – кафедральный протоиерей.[80]
Несмотря на высокие для саратовской епархии должности, протоиерей и благочинный Чернышевский был совершенно чужд кичливости и чиновного чванства. Он не принадлежал к людям, которых боялись и которые вызывали подобострастный трепет у окружающих, особенно подчинённых: «Мой батюшка был не такой человек», – писал об отце Н. Г. Чернышевский, рассказывая о своих ранних юношеских впечатлениях (I, 591). «Он имел власть и подчинявшихся этой власти. Но едва ли когда-нибудь эта олицетворённая кротость возвысила голос или наморщила чело, видя проступки подчинённых ей», – свидетельствовал современник.[81] И это в эпоху, когда, по словам осведомлённого историка, «благочинные были чистые князьки, держали себя надменно с остальным духовенством и обирали их сильно; священник даже у себя в доме не смел сесть при благочинном».[82]
Вот портрет Г. И. Чернышевского, оставленный близко знавшим его современником: «Он имел осанку, невольно внушавшую уважение; тихая плавная поступь; чистое, замечательной белизны, с легким оттенком румянца лицо, шелковистые, отчасти волнистые, светло-русые волосы, самых скромных размеров такого же цвета борода; дышащие неподдельною добротою глаза; тихий, отзывающийся какою-то задушевностью голос (с слабым оттенком шепелявости); необыкновенная плавность и логичность речи; сосредоточенность взора над тем, к кому он был обращён, как будто чрез эту сосредоточенность говорилось: смотри на меня, сердце моё откровенно с тобою».[83]
В 1828 г., столь наполненном для Г. И. Чернышевского важными событиями, случилось ещё одно, пожалуй, самое значительное: родился сын. В молитвеннике появились строки: «1828 года июля 12-го дня поутру в 9-м часу родился сын Николай. – Крещён поутру 13-го пред обеднею. Восприемн<иками> протоиерей Фёдор Стеф<анович> Вязовский, вдова протоиерейша Пелагея Ивановна Голубева».[84] Сыну суждено было жить, он так и остался единственным ребёнком в семье протоиерея.
Однажды, на 21 году жизни, Н. Г. Чернышевский написал в студенческом дневнике: «Не буду ли после недоволен папенькою и маменькою за то, что воспитался в пелёнках, так что я не жил, как другие, не любил до сих пор, не кутил никогда, что не испытал, не знаю жизнь, не знаю и людей и кроме этого через это самое развитие приняло, может быть, ложный ход, – может быть» (I, 49–50). Возникшее под впечатлением порыва сомнение, бывало, возобновлялось. Но в основном позднейшие высказывания о характере семейного воспитания исполнены сознанием его неложности, положительности, правильности. Выражения «воспитался в пеленках», «не знаю жизнь», «не знаю людей» возникали чаще всего в контексте озорных и внешне привлекательных мыслей о кутежах. Впоследствии понял: жизнь и людей он научился понимать верно и глубоко во многом благодаря тому воспитанию, которое получил в ранние годы. Вот некоторые прямые автобиографические высказывания Чернышевского на этот счет: «Благодаря дельности и рассудительности моих старших, я, подобно моим кузинам и кузенам, очень рано привык понимать характер жизни, в которой рос» (XII, 498); в семье «я привык видеть людей, поступающих, говорящих, думающих сообразно с действительною жизнью. Такой продолжительный, близкий пример в такое время, как детство, не мог не помогать очень много и много мне, когда пришла мне пора теоретически разбирать, что правда и что ложь, что добро и что зло» (I, 680–681). Необходим развёрнутый биографический комментарий этих высказываний, чтобы выяснить, как и по каким линиям шёл процесс воздействия воспитательных элементов на формирующееся сознание и на душевный склад, какие именно стороны и факты семейного воспитания и окружающей саратовской жизни связаны с будущими теоретическими воззрениями писателя-демократа, или, словами Чернышевского, «как и что влагала жизнь в голову и в сердце» (I, 567).
Ко времени рождения Николая (Николи, Николеньки) семья Чернышевских и Голубевых уже составляла единое целое и в бытовом и нравственном отношениях. После смерти Николая Михайловича Котляревского (1828), мужа младшей из сестёр Голубевых Александры, она вышла в 1831 г. замуж за мелкопоместного дворянина Николая Дмитриевича Пыпина (1808–1893), имея на руках двух малолетних детей.[85] У Пыпиных родилось ещё восемь человек: Варвара, Александр, Полина, Евгения, Сергей, Екатерина, Петр, Михаил. Особо дружил Николай Чернышевский с Александром (1833–1904), который впоследствии стал профессором Петербургского университета, журналистом, историком литературы, академиком. Свидетельства Пыпиных, и в первую очередь А. Н. Пыпина, выраставшего почти в одни годы с Чернышевским, являются авторитетным биографическим источником, и мы не раз будем прибегать к ним в характеристике различных периодов жизни Чернышевского.
Новое замужество младшей из Голубевых не внесло заметных изменений в сложившийся строй их жизни. По-прежнему действительной главой обоих семейств была Пелагея Ивановна. Принадлежность «почитаемого семейного патриарха» Гаврилы Ивановича к духовному сословию направляло ход жизни в привычное, традиционное для Голубевых русло, и дворянство Н. Д. Пыпина не оказывало сколько-нибудь существенного влияния на семейный уклад в целом.[86] Некоторые биографы Чернышевского преувеличивали это влияние, находя в нём немаловажное объяснение процесса расхождения будущего писателя с его отцом в вопросах религии.[87] Источники не подтверждают подобного суждения, опирающегося на чисто внешнее обстоятельство, которое скорее затушёвывает, чем проясняет подлинную, гораздо более сложную картину формирования мировоззрения Чернышевского. Ориентация Пыпина на чиновно-дворянскую среду и влияние этого окружения на жизненный строй семьи сказались лишь на судьбе его детей, получивших не духовное, а светское образование. В религиозно-насыщенный мир Чернышевских Николай Дмитриевич никогда не вмешивался, будучи человеком верующим, набожным. По словам Чернышевского, «дядюшка, женившийся ещё юношей, потом всю молодость проживший в семействе тёщи, наполовину вошёл в интересы духовного круга», и если через Н. Д. Пыпина семейство «несколько соприкасалось с небогатым дворянством» и прочими сословиями «среднего слоя общества губернского города» («и помещики, и военные, и чиновники, и купцы, и всякие «разночинцы», как пишется в церковных (да и в гражданских) переписках»), то «всё это было довольно незначительною долею в жизни нашего семейства: главное наше родство было духовное, центр всех наших отношений и разговоров был – духовный» (XII, 491).