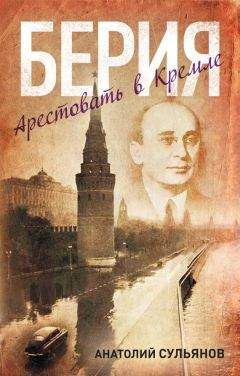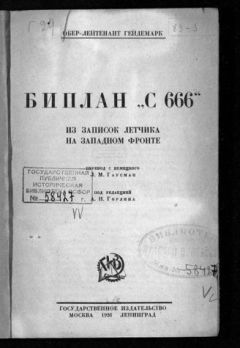Что мне делать? Слезы обиды хлынули ручьем… Нино, дорогая, прости меня…
И снова я смалодушничал — я отрекся от своей любви…»
Телеграмма Сталина и Жданова о назначении Ежова наркомвнуделом и об опоздании ОГПУ на четыре года словно подхлестнула НКВД. Новый нарком, вчерашний секретарь ЦК ВКП(б) — покладистый и внимательный, с ровным и спокойным характером, менялся на глазах много лет знавших его людей. Он стал замкнутым, недоступно-скрытым, вечно озабоченным и молчаливым. Многие из тех, кто знал Ежова по совместной партийной работе, не узнавали в нем, вчерашнем отзывчивом и скромном человеке, нынешнего чрезвычайно занятого, важного и порой равнодушного начальника. Он и улыбался теперь редко, сдержанно, когда шутил сам товарищ Сталин. Николай Иванович Ежов ревностно исполнял установки генсека, ходил и на доклад, и на совещания с большой, тонкого хрома папкой, наводившей страх на работников ЦК, наркомов, служащих Президиума Верховного Совета. На совещаниях садился в отличие от других наркомов за первый стол. И даже сапоги пошил на заказ с высокими каблуками, чтобы казаться выше своего маленького роста.
Работал он усердно, ночи напролет, пребывая в печально известном доме на Лубянке, допрашивая «врагов народа», выслушивая информацию следователей по особо важным делам, просматривая и уточняя очередные списки «врагов народа».
Он, наверстывая упущенное ОГПУ времен Ягоды, силился быстрее доложить товарищу Сталину о том, что «опоздание на четыре года» ликвидировано и НКВД работает в полную силу по искоренению троцкистско-зиновьевского блока, двурушников, шпионов, резидентов германо-японо-англо-итальянских разведок, диверсантов, остатков кулацких банд. Замечание Сталина о четырехлетнем опоздании стало для НКВД мощным толчком, ускорившим ведение следственных дел при массовых, масштабных репрессиях, побудившим суды применять высшую меру наказания не как исключение, а как обычное наказание. Механизм массового уничтожения советских людей, словно огромный маховик, действовал размеренно и четко. Расстрелы велись круглосуточно в подвалах тюрем, в близлежащих лесах, в безлюдной местности, в оврагах и наскоро вырытых траншеях.
Среди историков и всех, кто работает над проблемами революции, Гражданской войны, сталинского переворота 1929 года, разгула карательных функций ЧК — ГПУ — НКВД — МГБ в двадцатых — тридцатых — сороковых годах, часто возникает полемика о «первопроходцах» террора, об истоках той жестокости, которая властвовала долгие годы в застенках камер-одиночек, тюрем, лагерей и комнатах следователей. Кто начал террор? Белые или красные? Но если в годы Гражданской войны, когда решалась судьба новой власти, можно хоть чуть-чуть найти оправдание красному террору — с четырех сторон вооруженные до зубов армии Антанты, Японии, Америки, внутри — контрреволюция, то никогда и ничем нельзя оправдать террор против народа в тридцатые — сороковые годы, когда, по словам Сталина, социализм победил полностью и окончательно. Почему с азиатской жестокостью во время допросов истязались абсолютно невиновные люди, честные труженики полей, заводов, науки, командиры и политработники Красной Армии, учителя и врачи?
Для более-менее точного объяснения подобной жестокости следует вернуться к концу девятнадцатого и началу двадцатого веков. Маркс и Энгельс, анализируя революции прошлого, допускали применение террора в интересах уничтожения класса эксплуататоров и укрепления диктатуры пролетариата. На возможности применения террора ссылались различные партии и течения, включая российских народников, «Народную волю» и другие.
Не отрицал применения террора и Ленин, хотя делал это с оговорками и некоторыми ограничениями. Более того, Ленин долгие годы считал, что революция может и не потребовать острых форм борьбы. «Террор, — отмечал Ленин, — какой применяли французские революционеры, которые гильотинировали безоружных людей, мы не применим и, надеюсь, не будем применять».
Среди первых декретов советской власти было постановление об отмене смертной казни на фронте. Казалось, волна революции пойдет по огромной территории страны без особых конфликтов с народом, как это произошло в Петрограде. Руководство республики, разумеется, знало, что рано или поздно свергнутая буржуазия вкупе с верными ей генералами даст бой только что народившейся власти трудящихся, и потому приняло защитные меры: создало чрезвычайные комиссии по борьбе с контрреволюцией, укрепило Красную гвардию, преобразовав ее в январе — феврале 1918 года в регулярную Красную Армию, организовало военные комиссариаты и ЧОНы — части особого назначения.
Встает вопрос: когда же противоборствующие стороны встали на путь террора? Скорее всего, точкой отсчета стала дата первого покушения на Ленина — 1 января 1918 года, когда контрреволюция первой спустила курок террора. Затем последовал ряд убийств деятелей революции, в том числе Урицкого и Володарского.
По-видимому, определенную роль в развязывании террора сыграла империалистическая война, а вслед за нею и Гражданская. Войны обесценивают человеческую жизнь, делают ее малозначащей среди миллионов выстрелов пушек, разрывов бомб, решений генеральных штабов на проведение очередных операций.
Роковую роль сыграли выстрелы, грянувшие в июле восемнадцатого года в Екатеринбурге, когда вся семья Романовых с прислугой и врачом были расстреляны в подвале дома купца Ипатьева. Расстреляны без суда, без приговора не только бывшие царь с царицей, но и их дети!
К массовому террору подтолкнуло людей августовское покушение и ранение эсеркой Каплан вождя революции Ленина. Тысячные толпы требовали «красного террора», уничтожения буржуазии и всего класса эксплуататоров. Суды часто вершились на улицах и площадях, в подъездах и на чердаках, в жилых домах и служебных зданиях. «За каждую каплю крови вождя тысячи буржуев должны ответить своими головами!» — требовали вышедшие на улицы демонстранты.
И жестокость родила ответную жестокость — началось массовое уничтожение людей, повальный террор с обеих сторон. Белые убивали красных, красные убивали белых…
Начался новый, доселе неизвестный процесс массового озверения людей, требовавших убийств, крови, виселиц. «Подогретые» митингами, манифестациями, резолюциями вчерашние домашние хозяйки, мастеровые, студенты, учащиеся, пекари, сапожники требовали расстрелов, уничтожения «контры», дележа имущества богачей. Очень своевременно появился лозунг «Грабь награбленное!». Стихия людской ненависти к богачам (в том числе и к интеллигенции), к «енералам и ахвицерью» переплескивала через заборы, врывалась в дома, взламывала дубовые двери. Сквозь рев ошалелых людей, врывающихся в квартиры философов, инженеров, музыкантов, преподавателей университетов, уже слышался детский испуганный крик, который, однако, не останавливал обезумевших людей…