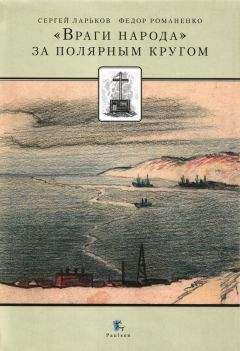— В результате национальные части одержали победу.
С 1917 года, со дня организации ВЧК — всероссийской чрезвычайной комиссии («чрезвычайки»), в СССР проводился и проводится непрерывно террор, то есть война с населением, когда все преимущества на стороне чекистов.
С 1929 по 1932 год основной удар был направлен на крестьянство, с 1936 по 1939 год — на коммунистическую партию и примыкающие к ней слои. Выкорчевывание партийцев сравнимо по свирепости с истреблением бывших сословий во время гражданской войны. Террор «тридцать седьмого года» получил такую известность, поскольку касался, в первую очередь, руководящих слоев партии и распространялся сверху вниз. Вслед за директором летела в преисподнюю вся верхушка, и каждого замешанного вынуждали дать показания на людей из его окружения. Поэтому эта «чистка» оказалась наиболее тотальной и захватила почти все население. В различных мемуарах и воспоминаниях о той эпохе говорится преимущественно о членах партии; и легко получить искаженное представление, так как миллионы жертв остаются вне поля зрения как некий серый фон. Поэтому мне представляется крайне важным, чтобы свидетели, пока они еще живы, оставили, хотя бы для историков, правдивые воспоминания о пережитом.
Под давлением обрушенного террора двери друзей и товарищей закрывались перед носом. Страх леденил в жилах кровь: зная мою непримиримость, каждый решил держаться от меня подальше. К концу тридцать шестого я остался в одиночестве, но ни на кого не обижался. Я понимал, что в такое страшное время многие иначе поступать не могут. Летом тридцать седьмого я женился. На моем пути встречались девушки и женщины близких мне взглядов, но сердцу не прикажешь: я выбрал жену советской выучки. Она была прелестна, а я с детских лет усвоил, что прекрасной даме надо служить, а не втягивать ее в грубую и страшную борьбу мужчин. Весь мир мог быть ареной моей борьбы, но дома я отдыхал. Эта универсальная формула годилась для любой эпохи, но в искусственно созданной обстановке дьявольского террора я налетел на мину. Лишившись аудитории друзей и искусственно отрезав возможность вылить гнев и возмущение на самую близкую мне тогда женщину, я, как вихрь, обрушивался на родственников, с которыми находился в общении, и на недостаточно знакомых людей, иногда даже первых встречных из рабочих. Моя интуиция была напряжена до предела, и я не допускал, как мне казалось, ошибок. Я убежден в том, что стукач выдал меня позже, после того, как его завербовали в тридцать девятом. В ту пору советский строй обнаружился уже во всей красе: деспота обожествили, холопство и лакейство довели до предела, пытки и издевательства достигли своего апогея, кровь жертв затопляла подвалы чекистов, полным ходом шло истребление партии, сотворившей все предыдущие преступления. Поэтому армия и промышленность были обезглавлены, и возникло много шансов для победы над режимом в неминуемом военном столкновении. Это было для меня несомненным и сотни раз продуманным. Но меня приводило в бешенство, что на одного коммуниста уничтожалось семь-восемь рядовых людей, и я не мог, стиснув зубы, ждать своего часа. Диссидентство, которое я проявил в самый ужасный период, по-настоящему меня сформировало и окончательно вырубило мой путь в жизни. Позднее не раз подтверждалось наблюдение: кто все время молчал, да прятался, попав в переделку, оказывался хлипким.
Отношение к человеческой жизни как к навозу приводило меня в исступление. Ценой жизни был клочок бумаги в форме доноса, часто анонимного. Иногда его писали сумасшедшие — всё годилось и шло в ход. В те времена срок за мелкое уголовное преступление был порой спасением человека от неминуемой или случайно подстроенной гибели. Жизнь становилась иррациональной. Фразы о бдительности, о том, что «ради построения социализма требуется…», о «происках классового врага» превращали людей в тупых, не рассуждающих, голосующих и аплодирующих исполнителей «воли партии и правительства». Сталин и его ближайшие сатрапы прятали свою бездарность, безжизненные порочные теории за этими штампами и совершали преступления, творили произвол, стремились во что бы то ни стало заставить людей делать противное их природе, отвратительное и невыносимое. На фоне зверства и обнаженной борьбы за власть меня озарила максима: не людоедство, а гениальные, верные идеи движут миром и ведут к его расцвету.
Глава 2. Первый год в тюрьме
С детских лет из поучений старших и из книг я усвоил, что человек становится преступником после того, как сделает нечто противозаконное. Он обязательно должен именно совершить преступление, а не только что-то сказать или подумать. Этот отсталый для деспотий двадцатого века взгляд я искренне исповедывал до массовых арестов 1937 года.
Осенью 1939 года незадолго до начала второй мировой войны я был в Крыму в доме отдыха и имел возможность понять истинное положение вещей в Советском Союзе. В 1936 году я защитил диплом инженера-механика и был оставлен в аспирантуре. С тех пор я вёз тройной воз: учился, работал за нищенский оклад и подрабатывал, чтобы иметь возможность вдвоём с женой существовать. Поэтому на юге я с наслаждением предавался заслуженному отдыху, стараясь ни о чём не думать, и не искал общества. Однажды под вечер, когда я сидел в одиночестве на скамейке, ко мне подсел отдыхающий, которого я невольно приметил по причине круглых, несколько смешных, крайне выразительных глаз и странной фамилии Подушко[2]. Его распирало от желания излить душу, выговориться. Нечто схожее я часто испытывал сам, потому отнёсся к нему с пониманием, симпатией, и был вознаграждён потрясающим рассказом.
Он оказался агрономом из-под Воронежа. Его посадили в тридцать восьмом, держали в подвале, били, не давали спать. После того, как с поста наркома внутренних дел убрали Ежова и назначили Берия, часть подследственных — для успокоения населения — выпустили из тюрем. Правда, большинство вышло на свободу только временно, как мы потом убедились, так как через год почти всех снова забрали. Подушко показал мне справку, из которой следовало, что он обвинялся одновременно почти по всем пунктам пятьдесят восьмой статьи[3] за вредительство, диверсию, террор, измену родине, шпионаж, участие в антисоветской организации, контрреволюционный саботаж, антисоветскую агитацию… Я прожил уже двадцать лет под этим антинародным режимом, но впервые соприкоснулся с обнажённой правдой чудовищной расправы над ни в чём не повинным человеком. С ужасом он шептал: «Вы же понимаете, это волчий билет, с такой справкой меня никуда на работу не возьмут»… Бедняга! Ему следовало думать не о работе, а о том, чтобы скрыться куда-нибудь в глухую тайгу в Сибирь и притулиться там на малюсенькой должности за ничтожную зарплату. Но тогда я не сумел дать ему этой единственно верной рекомендации, до неё надо было самому дорасти, и это стало возможным, когда был приобретен опыт советского заключённого. Именно его нам всем тогда не хватало, ибо в тюрьмы и в лагеря люди попадали миллионами, но редко кто из уцелевших возвращался в крупные города и уж, конечно, держал язык за зубами, или даже рассказывал успокоительные небылицы.