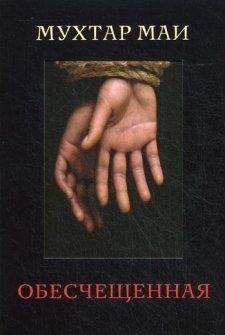— Хорошо, что ты рассказала всю правду. Бог решит.
Он начал молча делать записи, а я была настолько измучена, что положила голову на стол. Я хотела спать, вернуться домой, чтобы больше мне не задавали никаких вопросов.
Судья велел привести муллу Раззака и, как и ко мне, очень вежливо к нему обратился:
— Надо говорить мне правду. Вы лицо ответственное, и я рассчитываю на вас. Ничего не надо от меня скрывать.
Мулла начал говорить, но очень скоро я почти перестала его слышать. В конце концов я вдруг отключилась, провалившись в сон от усталости, и уже ни о чем не помнила. Кто вошел следующим, кто что говорил... туман. Я пришла в сознание, только когда отец разбудил меня:
— Мухтар, мы уходим! Пора уходить.
Когда я выходила из зала, судья поднялся со своего кресла, подошел ко мне и в знак утешения положил руку мне на голову.
— Держись. Не унывай. Держитесь все.
Полиция наконец-то отвезла нас домой. Я не видела Фаиза и его братьев, когда выходила, и не знала, допрашивали ли их после нас. Но со следующего дня перед домом появились журналисты, а также много незнакомых мужчин и женщин, представителей организаций по защите прав человека. Я не знала, как они получили информацию, кто им сообщил. Я даже увидела представителя английского телевидения, Би-би-си, пакистанца, прибывшего из Исламабада. Иностранцев было столько, что я не всегда понимала, кого или что они представляют. Ежедневно приходило очень много народу. Никогда наш небольшой дом не знал такого наплыва гостей — куры бегали по двору, собака лаяла, а вокруг меня постоянно было скопление людей на протяжении четырех дней.
Я говорила без опаски, разве только избегала подробностей, если меня настойчиво о них расспрашивали. Я понимала, что присутствие посетителей может меня защитить от угроз соседей, чья ферма находилась на расстоянии нескольких сотен метров. Если все эти люди хотели знать, то потому, что я символизировала возмущение всех прочих подвергшихся насилию женщин в нашем регионе. Впервые женщина становилась эмблематической фигурой.
Я услышала от них о вещах, о которых не знала раньше, о драмах, появляющихся в газетах, о случаях насилия и жестокости. Мне прочитали отчет, переданный ассоциацией властям Пенджаба, в котором рассказывалось, что только в течение июня более двадцати женщин были изнасилованы пятьюдесятью тремя мужчинами! Две женщины погибли: одна была убита насильниками из страха, что она на них донесет, другая покончила с собой от отчаяния 2 июля, почти в тот день, когда меня допрашивал судья. Эта женщина выбрала смерть, потому что полиции не удалось арестовать насильников. Все это лишь убеждало меня в решимости продолжать борьбу, идти по пути справедливости и правды, несмотря на давление полицейских, вопреки «традиции», предписывающей женщинам молча переносить страдания, а мужчинам делать, что они хотят.
О самоубийстве я больше не думала.
Одна пакистанская активистка объяснила мне:
— Половина женщин в нашей стране подвергаются насилию. Их против воли выдают замуж, их насилуют, мужчины пользуются ими как предметом обмена. Неважно, что они думают, потому что для мужчин главное, чтобы женщины не начали задумываться. Мужчины не хотят, чтобы женщины учились читать и писать, чтобы они узнали, каков мир вокруг них. Именно поэтому неграмотные женщины не могут защитить себя: они ничего не знают о своих правах, мужчины диктуют им правила поведения, чтобы подавить их возмущение. Но мы с тобой, смелее!
Это было как раз то, что пытались сделать со мной. «Ты скажешь то, что я тебе велю, потому что так лучше для тебя...»
Один журналист рассказал мне, что пресса выявила еще один факт обвинения Фаиза. Полиция зарегистрировала жалобу матери семейства по поводу ее дочери, которую он похитил, неоднократно насиловал, а потом отпустил, как раз когда в местной прессе заговорили о моем случае.
Я слышала столько новостей, я видела столько лиц...
Я пользовалась вниманием средств массовой информации в связи с моим обращением в органы юстиции, а также потому, что впервые в провинции глава джирги разрешил групповое изнасилование — по крайней мере, все это выплыло наружу. И я в какой-то мере стала символом истории, касающейся в действительности тысяч пакистанских женщин.
Голова у меня шла кругом, у меня было впечатление, что вокруг меня наконец просветлело. За моей деревней, за пределами моей провинции, до самого Исламабада, — там лежит целый неизведанный мир. Когда я была ребенком, я никогда не осмеливалась пойти дальше соседней деревни, где жили наши родственники и друзья семьи. Я вспоминала часто своего дядю, который иногда приезжал к нам. Он жил еще с молодости в Карачи. Мы с сестрами затаив дыхание слушали, как он рассказывает о море, горах, самолетах, о разных людях, приезжавших издалека. Мне было лет семь или восемь, и я с трудом понимала эти странные вещи. Я знала, что здесь, в моей деревне — это Пакистан, но дядя говорил, что на западе есть другие страны, например Европа. Я слыхала только об англичанах, оккупировавших нашу страну, но никогда их не видела. Я не знала, что есть «иностранцы», живущие в Пакистане. Наша деревня была так далеко от городов, на юге провинции, и я никогда не смотрела телевизор, за исключением одного дня, когда дядя привез телевизор с собой из Карачи... Телевизионные картинки потрясли меня. Я не могла понять, кто там, за этим странным аппаратом, кто говорил одновременно со мной, хотя в комнате никого не было.
Эти снимающие меня камеры — телевидение. Эти фотографы — газеты.
В деревне поговаривали, что меня «захватили» журналисты, что они пользуются мною, чтобы писать статьи, направленные против правительства Пенджаба. Что мне должно быть стыдно за то, что я делаю — вместо того, чтобы покончить с собой или похоронить себя заживо. Но все эти приехавшие отовсюду люди многое открыли мне. Например, то, что за насилием над моим братом, а потом надо мною в действительности скрывается намерение мастои прогнать нас с этой земли. Гуджар им мешают. Они не хотят, чтобы крестьяне нашей касты покупали принадлежащие им поля. Я не знала, правда ли это, но некоторые мои родственники верили этому, потому что мы беднее мастои, более малочисленны, у нас нет никакой политической поддержки и для гуджар приобрести землю чрезвычайно трудно.
В конце концов эти четыре дня, проведенные в окружении журналистов, заставили меня со всей жестокой правдой осознать, какими оковами является неумение читать и писать. А также невозможность составить собственное мнение об очень важных вещах. Теперь я страдала от этого. Даже больше, чем от относительной бедности моей семьи: все-таки мы не умирали с голоду. У нас были два быка, корова, восемь коз и поле сахарного тростника. Меня бесило, что я не могу понять написанное. Коран был моим единственным сокровищем, он записан во мне, в моей памяти, он был моей единственной книгой.