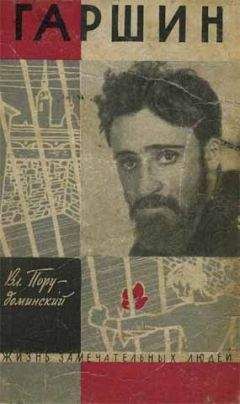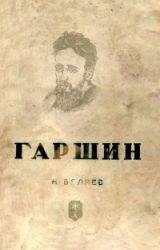Ворон изумленно покосился на Всеволода круглым рыжим глазом.
Уходить не хотелось. Вдали, над степью, в красном расплавленном металле заката плавали длинные серые облака. Айдар потемнел, стал холодным, настороженным, чужим.
…Так он мечтал. И грустно было
Ему в ту ночь…
У каждого человека должен быть, наверное, свой уголок, куда человек всегда мог бы прийти. Это очень нужно — иметь, куда прийти. Три года Всеволод жил в Петербурге с матерью и братьями. В квартире на Литейном был у него свой письменный стол и кровать, отгороженная ширмой. Были любимые книги, рисунки, собранные им коллекции растений и жуков.
У матери часто собирались гости — литераторы, известные в интеллигентных кругах лица, поборницы женской эмансипации. Гостям нравился Всеволод. Славный мальчик сидел в сторонке, внимательно прислушивался к разговорам. На вопросы отвечал умно, толково. О естественных науках говорил интересно. Растения называл по-латыни. Книг прочитал множество — и все помнил. Однажды славный мальчик не на шутку удивил гостей. Очень образованная дама вдруг спросила: «Почему якорь можно легко поднять из воды; ведь во время бури он так крепко держится на дне, что скорее лопнет цепь, чем сдвинется с места корабль?» Литераторы, известные в интеллигентных кругах лица, и поборницы женской эмансипации не знали. Гимназист второго класса подошел к очень образованной даме, просто и наглядно объяснил ей способ подъема якоря.
…Всеволод улыбнулся — хорошее было время. Он убегал от гостей к себе, раскладывал на столе аккуратно высушенные цветы и травы (гербарий пополнился летом, когда они ездили к Завадскому — в Петрозаводск), подолгу смотрел в аквариум, где возились тритоны… Да, Ворка, хорошо иметь свой уголок!..
Всеволод жил с отцом, жил с матерью; когда Екатерина Степановна уехала из Петербурга обратно в Харьков, жил год со старшими братьями; потом остался один. Его поселили у знакомых — у Афанасьевых. С Васей Афанасьевым он учился в гимназии.
Всеволод посылал письма домой. Дома было два: иногда ему казалось, что не было ни одного. Приходилось оправдываться перед отцом в своей любви к матери, убеждать мать, что равнодушен к отцу. Он ненавидел ложь, чувствовал себя предателем — и лгал. Он еще не умел всегда говорить правду.
Отец вдруг приезжал в Петербург, привозил какие-то проекты, изобретения, показывал кому-то, уничтожал, осердясь, и снова исчезал. «Мишель странный» становился все более странным. Всеволод огорчался: Афанасьевым нередко приходилось туго (когда Вася заболел, у них не нашлось пятидесяти рублей, чтобы отправить его на юг), а отец задерживал, не присылал денег. Всеволод чувствовал себя нахлебником. Отец умер — Всеволод забыл о его странностях. Он говорил о «папаше» холодно; вспоминал же натопленную комнату в деревенском доме, красный ковер на стене, красное пламя свечи. Всеволоду казалось — он в долгу перед отцом за эти зимние вечера…
Потом, через десять лет, писатель Гаршин отдал долг: он написал рассказ «Ночь» и в нем помянул отца добрым словом. Даже через десять лет мать не простила ему этого.
…Ворон осторожно клюнул Всеволода в шею. Степь таяла в сумерках. Туманный Айдар плескался внизу.
…И грустно было
Ему в ту ночь…
Еще один день ушел навсегда — ясный летний день. В большие клеенчатые сумки уложены ботанические коллекции. Связаны в пачку книги — Пушкин, Лермонтов, «Очерки из истории и народных сказаний» Грубе, «Московская флора» Кауфмана. Скоро в Петербург, в гимназию. Он не будет больше жить у Афанасьевых — его определили в пансион при гимназии. Хорошо, если начальство разрешит увольнения; мука — просидеть неделю в четырех стенах. Старобельск не бог весть какое счастье, а уезжать жаль. Всеволод снова представил себе унылого гимназиста, плетущегося по Васильевскому ост-, рову. Тройки в тетрадях. Скучные объяснения с матерью по поводу низких баллов. Что она думает о нем, читая в письмах вечное: «из тригонометрии — три, из алгебры — три…» Сперва Всеволод огорчался — право, он добросовестно выучивал, что положено. «Учусь я хорошо, но баллы жалкие». Потом понял: «Я могу работать долго и сильно, но только над тем, что я люблю, на что, быть может, уйдет вся моя жизнь». Так и решил. Еще жаднее набросился на книги, серьезно занимался ботаникой, ходил в театр — иногда на последние деньги: «…1 р. 75 к. взято на починку сапог, а 1 р. 4 к. на всякую мелочь и на билет в театр (простите, мамаша). Видел «На всякого мудреца довольно простоты».
Унылый гимназист исчез. Перед глазами Всеволода — притихший зал петербургской оперы. Светится в темноте золотая лепка, из хрустальных подвесок люстры вырываются тонкими иглами красные и зеленые лучики. Но вот воздух словно вздрогнул, и уже раздольная увертюра «Руслана» заполняет зал.
Всеволоду вдруг захотелось в Петербург. Что здесь, в Старобельске — раз в месяц книжка журнала, еда и сон. Всеволод вспомнил разговоры у Маркеловой, приятельницы матери, в прошлом обитательницы Слепцовской коммуны. Спорили о народе, о социализме, об «Исторических письмах» Лаврова. Говорили о Чернышевском, о необходимости переустройства общества. Приходила Екатерина Александровна Макулова, подруга Маркеловой по коммуне, — убежденная демократка, страстный агитатор, азартная спорщица. Гимназисты знали ее — она пропагандировала среди них. Когда Всеволод слушал ее, ему тоже хотелось убеждать, полемизировать, выступать, писать. Возвращаясь домой, он с усмешкой думал о своих фельетонах (с претенциозной подписью «Агасфер») в рукописной гимназической «Вечерней газете», о поэме — гекзаметром в духе «Илиады», — в которой описывался быт гимназии, преимущественно драки. Все это было смешное, ненастоящее. Хотелось написать что-то важное, большое, свое. Но что?.. Высокий гимназист быстро и решительно шагал по прямым линиям Васильевского острова…
…Ночная мгла
На город трепетный сошла..
Ворон задремал на плече у Всеволода. В ночной прохладе поднимались над землей щемящие степные запахи. Черный Айдар поблескивал в темноте. Голубые звезды качались на волнах, тонули и выплывали снова. Далеко-далеко мерцали окна старобельских домов. Всеволод пошел на огоньки.
«ДОЛГО ЛИ ВСЕ ЭТО БУДЕТ?»
…Раскрытые книги валялись на полу. Корректный офицер раскланялся: «Прошу прощения, мадам». Хлопнула дверь. На книге остался след жандармского сапога.
…Екатерина Степановна вздрогнула. Когда это было? Лет пять назад — после выстрела Каракозова.