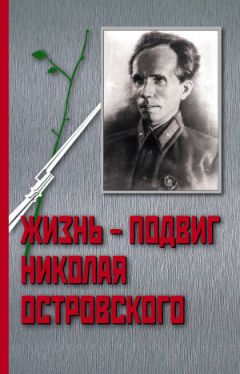Среди восторженных ценителей таланта и личности Островского первое место определенно должно принадлежать Аполлону Григорьеву. Одаренный незаурядными литературными способностями, сильным художественным чувством, рыцарски обожавший литературу и искусство, Григорьев представлял собой пламенного, часто до самозабвения вдохновенного романтика на русской национальной почве. Личная жизнь выпала ему крайне неудачная, переполненная обманутыми надеждами, неосуществившимися мечтами и всякого рода лишениями. Слишком горячая, романтическая натура и. обилие жизненных испытаний беспрестанно мешали ясности и спокойствию критической работы Григорьева. Его трудно было ограничить строго определенными рамками правоверного литературного направления, – и Погодин приходил в оторопь от внезапных взрывов чисто поэтического вдохновения своего сотрудника, от его неукротимой умственной независимости, от его художественного равнодушия к общепризнанным уставам и обычаям славянофильского толка.
Но и Погодин не мог не признать, что Григорьев “много хорошего везде скажет с чувством”. Именно это “чувство” преимущественно и управляло восторгами и мыслями Григорьева. И все его силы целиком сосредоточились на Островском. Молодой драматург стал центром молодой редакции “Москвитянина”. Она, по замыслу самого Погодина, должна была обновить его журнал, вдохнуть в него свежую, юную жизнь и упрочить торжество славянофильской литературной и общественной веры.
Григорьев оставил нам воспоминания об этом невозвратном прошлом беспредельных надежд и истинно богатырских творческих замыслов.
Перед нами не простой рассказ, а страстная вдохновенная исповедь. Речь ведет не просто бывший сотрудник бывшего журнала, а предается воспоминаниям некий влюбленный, воскрешающий чарующие образы своих мечтаний. Он кратко и ясно определяет значение Островского в своей личной и писательской судьбе: “Явился Островский и около него как центра – кружок, в котором нашлись все мои дотоле смутные верования”. Нашлись – подчеркивает сам автор, придавая, очевидно, исключительное значение самому факту встречи с Островским и его друзьями.
Очевидец описывает нам и саму сцену, с которой началось нравственное просветление Григорьева, – сцену столь же редкостного характера, как и вся история отношений Григорьева к Островскому.
Однажды у Островского был большой литературный вечер, присутствовали представители всех литературных направлений. Когда большинство гостей разошлось и остались только близкие Островскому люди, Филиппова попросили спеть. Певец, по обыкновению, произвел на всех сильное впечатление, в особенности на Григорьева. Он упал на колени и просил кружок принять и его в число своих ближайших членов. В порыве восхищения и мольбы он заявлял, что до сих пор всюду и тщетно искал правды и нашел ее наконец в среде друзей Островского; и он был бы счастлив, если бы ему позволили здесь бросить якорь.
Островский стал для Григорьева пророком нового слова, единственным полным выразителем его миросозерцания. Григорьев не умел определить, кто он – западник или славянофил, знал только, что существует один человек, с ним у него “все общее”. Только он может сказать вещее слово и действительно скажет его.
Эти восторги Григорьев перенесет и в свои статьи, примется даже в стихах воспевать талант обожаемого драматурга, посвятит целую оду Любиму Торцову как воплотителю “русской чистой души”,– вообще Григорьев до конца дней своих останется пламенным распространителем веры Островского. И нашего писателя следует считать душой и средоточием молодой редакции погодинского журнала. Такую роль определил ему сам Погодин, задумывая обновление своего издания и отводя в нем место современной даровитой молодежи русского направления.
Островский очень долго работал над первой своей комедией. Банкрот писался и исправлялся около четырех лет. Еще в 1846 году план пьесы был совершенно готов и точно определено развитие действия, – целые годы ушли на обработку частностей. Только в 1849 году пьеса была закончена. Островский имел уже многочисленные знакомства среди литераторов, мы знаем – его успел оценить и соредактор Погодина Шевырев. Слухи о молодом таланте дошли, наконец, и до издателя “Москвитянина”,– но слухи очень смутные и не вполне верные. Профессор, обитавший на Девичьем поле и погруженный в “пыль веков” своего “Древлехранилища”, поздно и случайно узнавал о событиях современной живой литературы, и теперь он обращался за сведениями к Шевыреву. “Есть какой-то Островский, – писал он, – который хорошо пишет в легком роде, как я слышал”. Погодин предполагал собрать более точные данные у учителя детей Шевырева, товарища Островского, и “спросить” у новоявленного писателя “его трудов”: “Я посмотрел бы их и потом объявил бы свои условия”.
Все остальное образованное московское общество обнаружило гораздо больше энтузиазма и любопытства по отношению к молодому писателю. Едва по городу разнеслись слухи о том, что комедия окончена, – на Островского посыпались приглашения прочитать ее в избранных кружках. Первое чтение состоялось у Каткова – в присутствии некоторых западников. Впечатление превзошло все ожидания, тем более что искусство Островского как чтеца стояло на уровне его авторского таланта.
Читал он медленно, чрезвычайно тщательно оттеняя каждую фразу, будто прислушиваясь к ней и взвешивая каждое выражение. Слушатели самых разнородных общественных слоев единодушно подчинялись обаянию чтеца: так он умел захватить, заворожить – одновременно и литераторов, и аристократов, и серую купеческую толпу.
Успех у Каткова был только сравнительно бледным началом торжества Островского. В течение всей зимы 1849 года чтения пьесы не прекращались, повторялись чуть не каждый день. Аристократические гостиные в своих восторгах не отставали от личных друзей Островского. Известный кавказский герой генерал Ермолов очень метко выразил свое впечатление, выслушав пьесу: “Она не написана, она сама родилась”. Графиня Ростопчина написала Погодину горячее письмо, которое должно было окончательно встряхнуть ученого исследователя древностей.
“Что за прелесть Банкротство! – восклицала графиня, несколько путая название пьесы. – Это наш русский Tapтюф, и он не уступит своему старшему брату в достоинстве правды, силы и энергии. Ура! у нас рождается своя театральная литература, и нынешний год был для нее благодатно-плодовит”.
Погодин решился наконец и у себя устроить вечер и пригласить Островского. Вечер состоялся 3 декабря. Островский явился в сопровождении артиста Садовского, попеременно с ним читавшего пьесу. Чтение и на этот раз вызвало всеобщее восторженное одобрение. Погодин записал в своем дневнике: “комедия – Банкрот – удивительная”. То же чувство разделяли и многочисленные гости профессора – актеры и литераторы. Среди них находился и Гоголь. Его заранее пригласили на чтение комедии. Он опоздал, приехал среди чтения, тихо подошел к двери и стал у притолоки. Так простоял он до конца, слушая, по-видимому, внимательно. После чтения он не проронил ни слова. Графиня Ростопчина подошла к нему и спросила: “Что вы скажете, Николай Васильевич?” “Хорошо, но видна некоторая неопытность в приемах. Вот этот акт нужно бы подлиннее, а этот покороче. Эти законы узнаются после, и в непреложность их не сейчас начинаешь верить”.