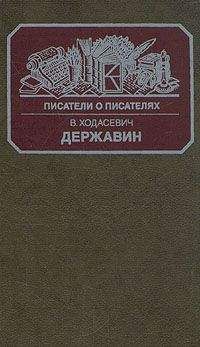Впрочем, об этом тогда еще никто не знал. В 1924 году, в четвертом номере журнала «Сибирские огни», выходившего в Новосибирске (точней — в Новониколаевске, ибо переименован город был лишь в 1925 году), опубликовал почти восторженную рецензию на «Уступы» поэт Вивиан Итин (1894–1938, расстрелян — уж не за то ли, что печатал в своем журнале белогвардейца?). Поскольку еще раньше одно стихотворение Несмелова «Сибирские огни» напечатали («Память» из «Уступов»), то и в 1927–1929 годах Несмелова в нем печатать продолжали — и стихи и прозу, в том числе «Балладу о Даурском бароне», поэму «Псица», наконец, рассказ «Короткий удар». После перепечатки того же рассказа в альманахе «Багульник» (Харбин, 1931) выдающийся филолог и поэт И. Н. Голенищев-Кутузов писал в парижском «Возрождении», что рассказ «не уступает лучшим страницам нашумевшего романа Ремарка»[25]. Что и говорить, о первой мировой войне можно много прочесть горького — и у Ремарка, и у Несмелова.
До Харбина Арсений Несмелов добрался, даже выписал к себе из Владивостока жену, Е. В. Худяковскую (1894–1988), и дочку, Наталью Арсеньевну Митропольскую (1920–1999). Впрочем, с семьей поэт скоро расстался; жена увезла дочку в СССР, сама провела девять лет в лагерях, а дочь впервые в жизни прочла стихи отца в 1988 году, когда в журнале «Юность» появилась (с невероятными опечатками, «сволочи» вместо «светочи» и т. д.) одна из первых «перестроечных» публикаций Несмелова. С личной жизнью у Несмелова вообще было неладно. В письме к П. Балакшину от 15 мая 1936 года отыскивается фраза, брошенная Несмеловым вскользь: «Есть дети, две дочки, но в СССР, со своими мамами». Многие данные говорят о том, что брак с Худяковской был для Несмелова вторым. Есть не совсем убедительные сведения о том, что первую жену Несмелова звали Лидией. И смутное воспоминание Натальи Арсеньевны, что как будто у отца была еще одна дочь. Мы так ничего и не узнали[26]. Впрочем, в биографии Несмелова неизбежно так и останется много пробелов. И того довольно, что удалось реконструировать биографию человека, не оставившего после себя ни могилы, ни архива, — зато удалось собрать его наследие, притом хоть сколько-то полно.
В первое время в Харбине Несмелов редактировал… советскую газету «Дальневосточная трибуна». Но в 1927 году она закрылась и, перебиваясь случайными приработками (вплоть до почетной для русского поэта профессии ночного сторожа на складе), Несмелов постепенно перешел на положение «свободного писателя»: русские газеты, русские журналы и альманахи возникали в Маньчжурии как мыльные пузыри, чаще всего не заплатив ничего и никому. Но поэт-воин, временно ставший поэтом-сторожем, не унывал. Его печатала пражская «Вольная Сибирь», пражская же «Воля России», парижские «Современные записки», чикагская «Москва», санфранцисская «Земля Колумба» — и, судя по письмам Несмелова, еще десятки журналов и газет по всему миру, впрочем, норовившие печатать, но не платить. А с 20 августа 1926 года (дата выхода первого номера) в Харбине функционировал еженедельник «Рубеж»[27] (последний номер, 862, вышел 15 августа 1945 года, накануне вступления в город советских войск). Там Несмелов печатался регулярно, и именно там (да еще в газете «Рупор») платили хоть мало, но регулярно: в море зарубежья Харбин всё еще оставался русским городом, и в нем был русский читатель.
При этом Несмелова назойливым образом старались не замечать. Везде, кроме Китая, — хотя в парижском «Возрождении» (8 сентября 1932 года) в статье «Арсений Несмелов» И. Н. Голенищев-Кутузов писал: «Упоминать имя Арсения Несмелова в Париже как-то не принято. Во-первых, он — провинциал (что доброго может быть из Харбина?); во-вторых, слишком независим. Эти два греха почитаются в „столице эмиграции“ смертельными. К тому же некоторые парижские наши критики пришли недавно к заключению, что поэзия спит; поэтому пробудившийся слишком рано нарушает священный покой Спящей Красавицы. <…> Несмелов слишком беспокоен, лирика мужественна, пафос поэта, эпический пафос — груб. В парижских сенаклях он чувствовал бы себя как Одиссей, попавший в сновидческую страну лотофагов, пожирателей Лотоса». Надо отметить, что и сам Голенищев-Кутузов в Париже был «не совсем своим» — основным его местом жительства был Белград.
Так было в печати, хотя в письме Голенищеву-Кутузову Несмелов и иронизировал: «Адамовича я бы обязательно поблагодарил, ибо о моих стихах он высказался два раза и оба раза противоположно. Один раз — вычурные стихи, другой раз — гладкие» (письмо от 30 июня 1932 года). А собратья по перу о Несмелове все-таки знали, все-таки ценили его. Отзыв Пастернака приведен выше, а вот что писала Марина Цветаева из Медона в Америку Раисе Ломоносовой (1 февраля 1930 года):
«Есть у меня друг в Харбине. Думаю о нем всегда, не пишу никогда. Чувство, что из такой, верней на такой дали всё само собой слышно, видно, ведомо — как на том свете — что писать невозможно, что — не нужно. На такие дали — только стихи. Или сны».
Имелся в виду, конечно, Несмелов: по меньшей мере одно письмо он от Цветаевой получил, сколько получила писем Цветаева от Несмелова — неизвестно, в ее раздробленном архиве их нет (по крайней мере, пока их никто не обнаружил). От Несмелова, как известно, архива не осталось никакого, так что письмо Цветаевой утрачено. Однако в письме в Прагу, к редактору «Вольной Сибири» И. А. Якушеву, 4 апреля 1930 года Несмелов писал: «Теперь следующее. Марине Цветаевой, которой я посылал свою поэму „Через океан“, последняя понравилась. Но она нашла в ней некоторые недостатки, которые посоветовала изменить. На днях она пришлет мне разбор моей вещи, и я поэму, вероятно, несколько переработаю».
Нечего и говорить, что разбора поэмы от Цветаевой Несмелов не дождался, однако не обиделся. 14 августа того же года он писал Якушеву: «Разбора поэмы от Цветаевой я не буду ждать. Она хотела написать мне скоро, но прошло уже полгода. Напоминать я ей тоже не хочу. Может быть, ей не до меня и не до моих стихов. Не хочу да и не имею права ее беспокоить. Она гениальный поэт». И в 1936 году Несмелов не уставал повторять (письмо к П. Балакшину от 15 мая 1936 года): «Любимый поэт — Марина Цветаева. Раньше любил Маяковского и еще раньше Сашу Черного».
Словом, литературное существование Арсения Несмелова было хоть и изолированным, но проходило отнюдь не в безвоздушном пространстве. Он писал стихи, рассказы, рецензии, начинал (и никогда не оканчивал) длинные романы, — словом, кое-как сводил концы с концами. Его печатали, его знали наизусть русские в Китае, но его известность простиралась лишь на Харбин и русские общины Шанхая, Дайрена, Тяньцзина, Пекина. Однако даже эти малые русские островки в «черноволосой желтизне Китая» были разобщены вдвойне, ибо в конце 1931 года Япония оккупировала северо-восточную часть Китая и на этой части была образована марионеточная империя — государство Маньчжоу-Ди-Го, на территории которого оказался Харбин, так что даже шанхайские поклонники несмеловской музы формально жили «за границей». С приходом японцев и без того не блестящее положение русских в Маньчжурии ухудшилось — они были попросту не нужны Стране Восходящего Солнца. Законы ужесточались, за самое произнесение слов «Япония», «японцы» грозил штраф: предписано было говорить и писать «Ниппон» и «ниппонцы». И пусть не удивляется современный читатель, найдя такое написание в стихотворениях и рассказах Несмелова.