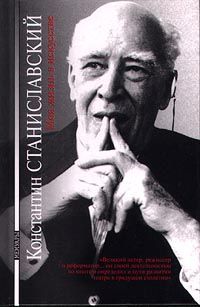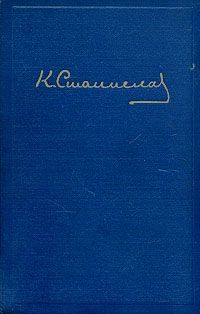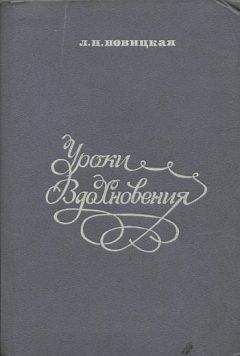Вот, например, в моей актерской уборной я стал приколачивать гвоздь, чтобы повесить полку на стене. Но стены оказались настолько ветхи и тонки (уборные были переделаны из простого сарая), что от ударов молотка кирпич выскочил насквозь и в стене образовалась дыра, через которую ворвался в комнату холодный наружный воздух. Особенно неблагополучно было с отоплением театра, так как все трубы оказались испорченными, и нам пришлось чинить их на ходу, притом в такое время, когда уже завернули морозы и пора было ежедневно нагревать здание. Этот изъян театра принес нам немало страданья и задержек в работе. Но мы не сдавались и боролись с препятствиями. А они были очень серьезны. Помню, в один из спектаклей мне пришлось отдирать от стены своей уборной примерзший к ней костюм, который предстояло тут же надевать на себя. Сколько репетиций приходилось проводить под аккомпанемент оглушительных ударов о металлические трубы, которые наскоро чинились до завтрашнего дня, когда они снова портились. Электрические провода также были в беспорядке и ремонтировались, вследствие чего репетиции происходили при огарках, почти в полной темноте. Каждый день открывал все новые и новые сюрпризы. То выяснялось, что декорации не помещались на сцене и надо было строить новый сарай, то приходилось упрощать мизансцену, постановку и самую декорацию ввиду недостаточности размеров сцены, то я должен был отказаться от полюбившегося эффекта ввиду несостоятельности сценического освещения и механического аппарата.
Все это задерживало работу в самый спешный момент перед открытием театра, которое должно было состояться как можно скорей ввиду полного опустения кассы.
Параллельно со всей этой сложной хозяйственной работой шли подготовительные административные работы. Надо было уже выпускать предварительные объявления об открытии театра, необходимо было придумать название нового дела, но так как мы еще не угадывали его будущей физиономии, этот вопрос висел в воздухе и откладывался со дня на день. "Общедоступный театр", "Драматический театр", "Московский театр", "Театр Общества искусства и литературы" – все эти названия подвергались критике и не выдерживали ее. Хуже всего то, что не было времени сосредоточиться и хорошенько подумать о спешно поставленном на очередь вопросе. Все мое внимание было направлено на то, чтобы понять, что же в конце концов выходит на сцене из репетируемых пьес. Сидишь, бывало, на режиссерском месте, чувствуешь, что в одном месте спектакля есть длинноты, в другом – не доделано, что в постановку вкралась какая-то ошибка, мешающая впечатлению. Если бы можно было хоть раз сплошь просмотреть пьесу с начала до конца, все стало бы ясно, но именно этой-то необходимой тогда сплошной, безостановочной репетиции добиться было невозможно.
Кроме того, тусклое освещение огарками не давало возможности рассмотреть группировки, мимику актеров, получить общее впечатление от всей декорации. А там, смотришь, актер опоздал на выход, так как его позвали для примерки костюма; а вот в самый трудный момент приехал кто-то, и меня самого вызвали в контору ввиду неотложности дела. Я, подобно Танталу, тянулся к чему-то, что от меня ускользало.
В один из таких моментов пытливого угадывания формировавшейся картины спектакля, когда я чувствовал, что вот еще минута – и я пойму секрет сцены, акта, пьесы, я услышал над моим ухом голос Владимира Ивановича:
"Больше ждать нельзя. Я предлагаю назвать наш театр "Московским Художественным общедоступным"… Согласны вы? – Да или нет? Необходимо решать сейчас же".
Признаюсь, что в момент этого неожиданного вопроса мне было все равно, как бы ни назвали театр. И я, не задумываясь, дал свое согласие.
Но на следующий день, когда я прочел в газетах объявление от "Московского Художественного общедоступного театра", мне стало страшно, так как я понял, какую ответственность мы взяли на себя словом "художественный".
Я был чрезвычайно взволнован этим.
Но судьба послала мне утешение: в этот самый день, после работы с Владимиром Ивановичем, Москвин показывался в роли Федора и произвел на меня огромное впечатление119. Я плакал от его игры, и от умиления, и от радости, и от надежды на то, что среди нас находятся талантливые люди, могущие вырасти в больших артистов. Было для чего страдать и работать! В тот же вечер нас всех порадовали и А. Л. Вишневский120 – Борис Годунов, и В. В. Лужский – Ив. Шуйский, и О. Л.
Книппер – Ирина, и другие артисты.
Время летело. Наступил последний перед открытием вечер. Репетиции кончились, но казалось, что ничего не было сделано и что спектакль не готов. Думалось, что недоделанные мелочи погубят весь спектакль. Хотелось репетировать всю ночь, но Владимир Иванович благоразумно настоял на том, чтоб прекратить дальнейшую работу и дать артистам сосредоточиться и успокоиться к следующему, решающему, торжественному дню открытия театра, 14 октября 1898 года121. До окончания последней репетиции я не мог уйти из театра, несмотря на позднее время, так как все равно дома не заснул бы, – и потому сидел в партере в ожидании того, когда повесят матерчатый серый занавес, который, казалось нам, должен перевернуть все искусство необычностью и простотой своего вида122.
Наступил день открытия. Мы все – участники дела – отлично понимали, что наше будущее, наша судьба ставились на карту. Или мы в этот вечер пройдем в ворота искусства, или они захлопнутся перед нашим носом. Тогда навсегда придется сидеть в скучной конторе.
Все эти мысли и рисовавшиеся грустные перспективы были особенно остры в описываемый мною день открытия. Мое волнение усиливалось беспомощностью: режиссерская работа окончена; она осталась позади, – теперь очередь артистов.
Только они одни могут вывести на свет спектакль, а я ничего уже не могу больше сделать и должен метаться, мучиться и страдать за кулисами без всякой возможности помочь. Каково это – сидеть в своей уборной, когда там, на сцене, идет генеральный бой! Неудивительно, что я хотел в полной мере воспользоваться последним моментом активного участия в спектакле, перед поднятием занавеса. Мне надо было в последний раз воздействовать на артистов.
Стараясь подавить в себе смертельный страх перед грядущим, представляясь бодрым, веселым, спокойным и уверенным, я перед третьим звонком обратился к артистам с ободряющими словами главнокомандующего, отпускающего армию в решительный бой.
Нехорошо, что голос мне то и дело изменял, прерываясь от нарушенного дыхания…
Вдруг грянула увертюра и заглушила мои слова. Говорить стало невозможно, и мне ничего не оставалось, как пуститься в пляс, чтобы дать выход бурлившей во мне энергии, которую я хотел тогда передать моим соратникам и молодым бойцам. Я танцевал, подпевая, выкрикивая ободряющие фразы, с бледным мертвенным лицом, с испуганными глазами, прерывающимся дыханием и конвульсивными движениями. Этот мой трагический танец прозвали потом "Пляской смерти".