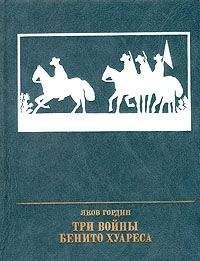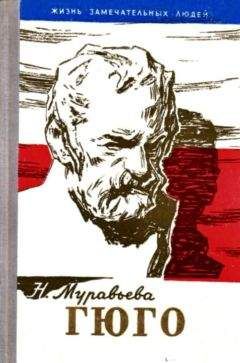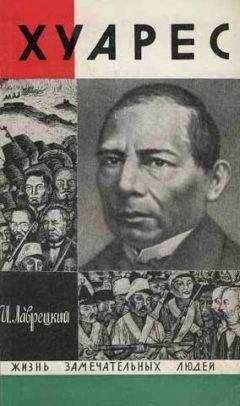Ему дали лепешку и миску бобов.
Ставни в его комнате открыли, и он видел проезжавшие по улице конные отряды. В Тепехи дель Рио собралось не меньше нескольких сотен людей Маркеса.
Пришел священник и начал что-то говорить, с сочувствием глядя на Окампо. Дон Мельчор запомнил только: «Мексика устала от пролитой крови». Но ему не хотелось вступать в разговор, а тем более причащаться. Он сказал:
— Падре, у меня с богом все уже улажено, и у бога со мной — тоже.
Священник ушел огорченный.
Окампо, сидя на кровати, думал о Мехико, о том, что сделает Хуарес, узнав о его смерти. «Только бы они не вынудили его мстить…» Подумал, что если бы военным министром был Дегольядо, он не допустил бы самосудов. А Сарагоса? Он не знал его.
Он видел беспомощное лицо Дегольядо, когда тот пришел к нему, Окампо, после заседания правительства, тогда, в Веракрусе. «Они хотят судить меня как изменника… Ну, что ж! Дону Бенито виднее… Он-то знает — изменник ли я. Только быстрее бы…»
Зачем Сулоаге нужна комедия с судом? Я предпочел бы иметь дело с этим откровенным убийцей, Маркесом…
Вошел Кахига.
— Пойдемте, сеньор Окампо, — равнодушно сказал он.
— Судьи уже в сборе?
— Да. Они ждут.
— Я не знаю, с какой скоростью у вас тут приводятся в исполнение приговоры, и хотел бы написать завещание.
— Это ваше право.
Принесли чернильный прибор и бумагу.
«После Гвадалахары я не писал завещаний… Три с половиной года… Для нынешних времен слишком долгий срок…»
Он перечислил своих четырех дочерей, пятую — приемную. Ясно указал, что получает каждая из них. Написал некоторые советы и приказания своему управляющему. Он писал, не торопясь.
Кахига пощелкал пальцами.
— Заканчиваю, капитан, — сказал Окампо.
«Я прощаюсь со всеми моими добрыми друзьями и со всеми, кто помог мне в большом и малом, и умираю с верой в то, что, служа моей стране, делал все к ее пользе».
Он сложил лист и оставил его на столе.
— Пусть это отдадут священнику.
Ему велели сесть на лошадь. Десяток всадников окружил его. Они выехали из селения и неспешно двинулись по мягкой пыльной дороге. Копыта коней тонули в красной пыли.
Через полчаса возле маленькой асьенды они придержали коней.
Вышел испуганный старик с седыми бакенбардами.
— Как называется асьенда, сеньор? — спросил Окампо.
— Кальтенанго, сеньор, — торопливо ответил старик. — Я давно не занимаюсь политикой, да и никогда особенно ею не интересовался… Я — адвокат на покое из Морелии…
И тут он узнал Окампо.
— Боже мой, дон Мельчор…
Он с ужасом смотрел на вооруженных людей.
— Идите в дом, — сказал Кахига. — Никто вас не тронет.
Они спешились.
— Есть ли у вас какие-нибудь пожелания, сеньор Окампо? — спросил Кахига.
Дон Мельчор подумал.
— Пожалуй, я бы добавил кое-что к завещанию.
У старого адвоката взяли чернила, перо и бумагу. Окампо сел на скамью под ветхим навесом.
«Я завещаю свои книги, числом около десяти тысяч, дорогому мне колехио де Сан Николас в Морелии…»
Он посмотрел, щурясь, на обступивших его людей Кахиги.
«…разумеется, после того, как сеньоры, расстрелявшие меня, выберут себе те книги, которые возбудят их интерес».
— Я упомянул вас в своем завещании, капитан, — сказал он Кахиге. — В ваших интересах доставить это дополнение тому же священнику.
Кахига заглянул в написанное.
— Вам не удастся унизить меня, сеньор Окампо, — равнодушно сказал он.
Они отошли на сотню шагов от асьенды Кальтенанго и остановились.
Кривое полузасохшее перечное дерево росло на маленьком буром холме.
Кахига жестом приказал дону Мельчору встать возле холма.
Солдаты выстроились перед ним.
— Подождите, — сказал Окампо, — у меня осталось немного денег.
Он достал кошелек и протянул его капралу. Тот взял…
Солдаты подняли ружья.
Окампо увидел Хуареса в белой рубашке, тогда, в Гвадалахаре. Как жаль, что меня не расстреляли, когда рядом были Бенито и Гильермо… Хуарес, с поднятым лицом, полным решимости и гордости, вышел вперед и, раскинув руки, заслонил всех…
Из записной книжки Андрея Андреевича Гладкого (7 июня 1861 года, по возвращении в Мехико)«…Старик на крохотной асьенде показал мне, куда они пошли. Я поехал. Я понимал, что палачи не любят свидетелей и могут убить и меня. Но подумал, что ему будет легче умирать, увидев меня, и не мог не оказать ему этой последней помощи. Но он меня не увидел. И он, и солдаты стояли боком ко мне. Ковер красной пыли заглушил звук копыт, и никто меня не заметил. Я остановился шагах в пятидесяти. Солдаты в этот момент подняли ружья, офицер вынул из ножей саблю. И вдруг дон Мельчор, который стоял неподвижно, опустив голову, вскинул ее и шагнул вперед — прямо на стволы ружей. Офицер торопливо махнул саблей. Залп. Окампо упал и начал перекатываться, прижав руки к груди. Офицер что-то крикнул. Солдаты нервно перезаряжали ружья. Трое из них без команды в упор выстрелили в дона Мельчора, и он затих.
Мне не было страшно. Я в тот миг не думал и не чувствовал ничего, а только смотрел и запоминал против воли каждую деталь. Я и сейчас, закрыв глаза, вижу все это пред собою, чувствую этот зной, давящий, как раскаленная каменная плита, багровый тон всей местности, синие линялые блузы солдат, их нелепо широкие форменные штаны… Широкоплечий индеец в мундире капрала отвязал от пояса моток веревки, обвязал ею дона Мельчора. Потом вместе с одним солдатом они взялись за веревку и поволокли тело на плоскую возвышенность к дереву. Они перекинули веревку через сук возле самого ствола и подтянули тело так, чтобы оно повисло во весь рост, не касаясь земли. Привязали веревку и полюбовались своей работой.
Потом они пошли в мою сторону. Я сидел в седло и ждал их. Все во мне было пусто. Они прошли мимо.
Только офицер, тот самый, что арестовывал дона Мельчора, безразлично взглянул мне в лицо.
Двое солдат остались возле казненного, сидели на земле и курили.
Я подъехал к дереву. Спешился…»
Он подъехал к дереву. Солдаты удивленно смотрели на него снизу.
Какая-то угрюмая усталость была в той тяжести, с которой свисало тело казненного. Андрей Андреевич протянул руку, погрузил пальцы в густые, горячие от солнца волосы Окампо и поднял его голову — кровь из раны на лбу залила лицо и, смешавшись с пылью, образовала влажную багровую маску. Гладкой горестно изумился силе, с которой голова дона Мельчора стремилась опуститься снова на простреленную грудь. Рука Гладкого дрожала от усилия, но он держал голову и смотрел в изуродованное лицо.