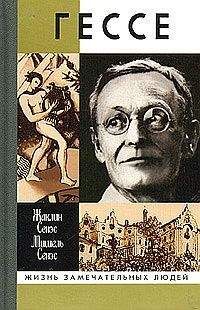Но теперь он понимает Реку. Романтик-немец и внимательный таосист узнал себя в этих мутных водах и, по примеру Сиддхартхи, пытается полностью реализоваться, зная цену такого воплощения. Он без колебаний отправляется на штурм своего внутреннего театра, где живут шуты и герои, страхи и прихоти, святые и оборотни. «Ты спрашиваешь, имеет ли мое беспокойство духовные причины, — напишет он Эмилю Моль-ту 26 июня. — Но, дорогой мой давний друг, неужели ты не читал ни одной моей строчки? Если нет, ты должен знать, что не только с точки зрения психоанализа я считаю все нервные болезни чисто психическими, но вообще любое физическое событие… продиктованным и вызванным душевным движением».
Гессе припадает к источнику, чтобы напиться целебной воды, и нежится в теплых ваннах, не теряя, однако, себя самого из виду. И, непримиримый, смеется над собой. Собственный образ озабоченного и педантичного курортника бьет его прямо в лицо, словно бумеранг. Он с наслаждением выписывает мимику, позы страдальца, любые банальности. В маленьком закрытом сумасшедшем мирке, который его окружает, он представляет собой идеального клиента, честного, благоразумного, респектабельного и дисциплинированного, то есть не топчущего лужайки и прополаскивающего свой стакан два раза как минимум. Он абсолютно подобен тем, кто его окружает: «На улицах люди идут очень медленно, многие с тросточками, многие хромают, хотя каждый старается скрыть ишиас. Я делаю то же самое — на людях стараюсь казаться путешественником, заехавшим в Баден из чистого удовольствия. Повсюду царят радость и искусственный шарм, хотя на самом деле мы все испытываем боль».
За едой он украдкой улыбается самому себе: «Я сижу в светлой столовой с высоким потолком за маленьким круглым столом, один, и одновременно наблюдаю, как я беру стул, сажусь, чуть-чуть прикусив губу, потому что мне больно; потом я вижу, как прикасаюсь машинально к вазе с цветами, чуть придвигаю ее, вытаскиваю медленно, будто в раздумье, салфетку из-под своего прибора».
И это он — любитель природы, лесных прогулок, нераскаявшийся нудист, Кнульп, бродяга, сидящий в придорожных трактирах на деревянном табурете? Можно ли теперь узнать в нем фланера из Венеции с лицом святого Франциска, озаренным радостью, или зеваку, сфотографированного в Монтефалко в черной шляпе на итальянский манер, сидящего рядом с кувшинами вина? Какой неожиданный образ он теперь являет: больной нытик в плену привычек здешнего светского общества, как все остальные, забавляющийся «тревожным видом своего соседа, его неуверенностью и беспомощностью». Есть над чем посмеяться.
И Гессе-поэт смеется над Гессе-курортником. Он описывает свое унылое лицо, его «смиренное выражение», гримасы, которые корчит от боли, свои скупые жесты — и все это в окружении, которое он не теряет из виду и за которым продолжает внимательно наблюдать. В его сознании живут два человека. Один — примерный пациент, тщательно описывающий жизнь в Бадене. Другой — веселый повеса, которого ужасная жара и лютый холод приводят в драматическое возбуждение и которого терзают дурные предчувствия в этом оазисе беззаботности, где так распространен дурной тон, следы которого видны повсюду: в фасоне дамских шляпок, на выставке почтовых открыток или на программках концертов легкой музыки в час чая. Так увидят свет «Записки о курортной психологии», вскоре собранные в книгу под названием «Курортник», где грубоватые шутки и каламбуры не смягчат блестящую сатиру.
На протяжении своего весеннего и осеннего курсов лечения, под весенним ливнем или под осенним листопадом Гессе будет таскать за собой оригинального спутника — капризного и упирающегося изо всех сил одиночку. Они будут сражаться на рапирах — насмешливый и обессиленный, — ощущая трепет, биение крови и жар. Их удары прозвенят в молчании гостевого зала. Гессе-поэт слишком умен, чтобы не заметить, что игра, которой он забавляется, помогает Гессе-курортнику выздороветь. Он легко меняет тональность, заставляя воображение переходить от гармонии к диссонансу и наоборот «в самом живом и самом глубоком взаимодействии». В мягких фланелевых брюках он напевает мелодию, которую подхватывает загоревший Гессе. Они подстерегают друг друга, сталкиваются, объединяются в восхитительном созвучии. Это одновременно и двуликий Герман из Кальва, и стоящий на страже Лаушер, но более гибкий, более умный, не упускающий случая выразить свою двойственность: «Я хотел бы найти выражение для двуединства, хотел бы написать главы и периоды, где постоянно ощущались бы мелодия и контрмелодия, где многообразию постоянно сопутствовало бы единство, шутке — серьезность. Потому что единственно в этом и состоит для меня жизнь, в таком раскачивании между двумя полюсами, в непрерывном движении туда и сюда между двумя основами мироздания».
Многие читатели увидят в герое Гессе себя. Его тоска — тоска человеческая. Он никогда не потеряет ее из виду, отказываясь ее предать: «Можно много говорить об этом, а вот разрешить нельзя. Пригнуть оба полюса жизни друг к другу, записать на бумаге двухголосность мелодии жизни мне никогда не удастся… И все-таки я буду следовать смутному велению изнутри и снова и снова отваживаться на такие попытки. Это и есть та пружина, что движет мои часы».
Принять свою судьбу, какой бы она ни была, — это его кредо. Эту мысль он объясняет нам не как интеллектуал, а как художник, прибегая к единственно возможному универсальному языку: музыке. Читать Германа Гессе — значит слышать его партитуру, на каждой странице воспринимать звучащую песню и ее эхо, брата, врага и любить их в их самых причудливых формах. Георгу Рейнхарту он напишет 25 октября: «Я закончил мою ба-денскую рукопись. Она называется „Курортник“ и содержит, как мне кажется, нечто новое и особенное…»
Ему сорок шесть лет: резкая линия бровей, гладкий подбородок, готовые сложиться в насмешку губы. На фотографии он бритый, обнаженный по пояс рядом с Рут, повязавшей на лоб большой светлый платок. Конец осени 1923 года он проводит в Каза Камуцци, «который дарит ему утонченность великолепного одиночества». Он пишет Венгерам длинные восхищенные письма: берега реки в цветах, горы — оттенков мечты. В день ежегодного деревенского праздника он наслаждается пиршеством, как ребенок, и, присев на стену церкви СанАббондио, разглядывает процессию: «Мадонну вынесли из церкви, очень большую, больше человеческого роста, могущественную, позолоченную и в голубом плаще. Она поглотила все солнце и напоминала древнюю богиню». Ему есть от чего чувствовать себя счастливым: только что вышел в свет «Сиддхартха», переиздается «Демиан». Фрау Вельти прислала ему корзину осенних яблок, которые он оставил на воздухе и с удовольствием грызет время от времени. Он перечитывает сердечное письмо, полученное от Стефана Цвейга еще в конце 1922 года: «Я чувствую, дорогой Гессе, что мы идем очень близкими путями, что наши пути одинаково надломлены эпохой, что нас обоих время побуждает к внутреннему поиску, который мог бы создать впечатление отстраненности и бегства, однако мы хорошо знаем, что речь идет о попытке приблизиться к истине…»