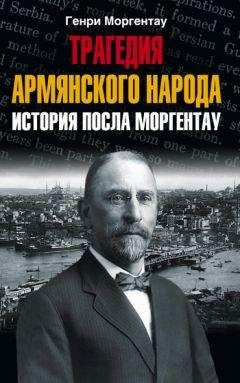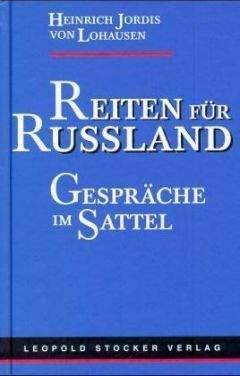Однажды Энвер предложил мне поехать вместе с ним в Белградский лес. Поскольку я никогда не упускал возможности повлиять на него, то приглашение принял. Мы доехали на машине до Буюкдере, где нас ожидали четыре человека с лошадьми. Во время прогулки по великолепному лесу Энвер стал более общительным и разговорчивым. Он с любовью говорил об отце и матери, рассказал, что, когда они поженились, отцу было шестнадцать, а матери всего одиннадцать. Сам он родился, когда его матери было пятнадцать. Рассказывая о своей супруге, он стал на удивление мягок и нежен, каковым доселе я его никогда не видел. Он говорил о достоинстве, с которым она вела дом, сожалел, что мусульманские понятия о морали не позволяют ей участвовать в социальной жизни, однако выразил желание, чтобы она и миссис Моргентау как– нибудь встретились. Энвер сказал, что он ведет строительство нового дворца на Босфоре, и, когда работы будут закончены, его супруга непременно пригласит миссис Моргентау на завтрак. Как раз в это время мы проезжали мимо владений сенатора Абрахам-паши – очень богатого армянина. Этот человек был личным другом султана Абдул-Азиза, и, поскольку человек в Турции наследует не только собственность своего отца, но и его друзей, наследный принц Турции, сын Абдул– Азиза, наносил еженедельные визиты сенатору. Проезжая по парку, Энвер с негодованием заметил, что дровосеки рубят деревья, и остановил их. Позже, услышав, что военный министр купил этот парк, я понял причину его негодования. Поскольку Абрахам-паша был армянином, я счел это достаточным поводом, чтобы вновь затронуть интересующий меня вопрос.
Я заговорил о жестоком отношении, которому подвергаются армянские женщины.
– Вы сказали, – проговорил я, – что защитите женщин и детей, но я знаю, что ваши приказы не выполняются.
– Все эти рассказы не могут быть правдой, – ответил он. – Не думаю, что турецкий солдат может обидеть женщину с ребенком.
Возможно, если бы Энвер прочитал сообщения, хранящиеся в архивах американского посольства, он бы изменил свое мнение.
Он еще раз сменил тему разговора и поинтересовался, как мне понравилось седло – это был известный «Макклел– лан». Энвер его однажды испробовал, и ему так понравилось, что он велел изготовить его точную копию (включая цифры в уголке) для себя и ввел его в одном из своих полков. Он рассказал мне о железных дорогах, которые сейчас строит в Палестине, о превосходной работе кабинета, поведал, какие грандиозные возможности открываются в Турции для торговли недвижимостью. Он даже предложил совместно приобрести землю, которая очень быстро дорожает. А я продолжал упорно говорить об армянах, впрочем, преуспел в этом не более, чем раньше.
– Мы не позволим им собираться в местах, где они могут вредить нам и помогать нашим врагам. Мы переселим их в другие места обитания.
Наша верховая прогулка оказалась столь удачной, во всяком случае с точки зрения Энвера, что через несколько дней мы повторили ее вновь, на этот раз с участием Талаата и доктора Гейтса, руководителя Роберт-колледжа. Энвер и я ехали впереди, наши спутники держались сзади. Турецкие чиновники исключительно ревниво относятся к своим привилегиям, и, поскольку военный министр – птица высокого полета, Энвер настоял на соблюдении дистанции между нами и другой парой всадников. Меня это изрядно позабавило, ведь я знал, что Талаат – более влиятельный политик. Но он не возражал против подобной дискриминации и только однажды позволил своей лошади обогнать Энвера и меня. При этом нарушении норм Энвер выказал явное неудовольствие, после чего Талаат придержал лошадь и послушно вернулся на свое место.
– Я просто хотел показать доктору Гейтсу поступь моей лошади, – извиняющимся тоном пробормотал он.
Только меня интересовали более важные вопросы, чем тонкости турецкого чиновничьего этикета; я хотел вернуться к обсуждению армянской проблемы. Но мне снова не удалось достичь хотя бы минимального успеха. Энвер находил более приятные для него темы разговора.
Он заговорил о лошадях, снова продемонстрировав непостоянство, изменчивость турецкого ума. Готовность, с которой турок переходил от актов чудовищной жестокости к актам личной доброты, не могла не удивлять. Энвер сказал, что скоро состоятся скачки, и выразил сожаление, что у него нет жокея.
– Я порекомендую вам английского жокея, – сказал я. – Вы согласны на сделку? Он военнопленный. Если он выиграет, вы дадите ему свободу.
Этот человек по имени Филдс действительно принял участие в скачках как жокей Энвера и пришел к финишу третьим. Он скакал к своей свободе! И поскольку он не пришел первым, министр не был обязан выполнить условия нашего соглашения, однако все равно освободил его.
Во время описываемой мной прогулки Энвер продемонстрировал свои качества меткого стрелка.
В какой-то момент я неожиданно услышал звук выстрела. Это тренировался один из помощников Энвера. Военный министр спрыгнул с лошади, выхватил пистолет и, протянув вперед руку, прицелился.
– Видите ту ветку на дереве? – спросил он. До нее было не менее десяти метров. Когда я кивнул, Энвер выстрелил; ветка упала на землю.
Скорость, с которой Энвер выхватил пистолет, прицелился и сделал выстрел, убедительно объяснила мне влияние, которое военный министр имел в банде, в то время правившей в Турции. Ходило много слухов о том, что Энвер без колебаний использовал именно этот метод убеждения в критических для себя ситуациях. Не знаю, насколько они были правдивыми, но могу засвидетельствовать, что стрелком он был отменным.
Талаат решил развлечь себя аналогичным способом, и в конце концов два чиновника устроили соревнование, причем держались весело и беззаботно, как школьники.
– У вас есть с собой карточка? – спросил Энвер. Он настоял, чтобы я прикрепил ее к дереву, стоявшему в пятнадцати метрах от нас.
Энвер стрелял первым. Его рука была твердой, глаз устремлен в цель, и пуля попала прямо в центр карточки. Этот успех раззадорил Талаата. Он прицелился, но его рука слегка подрагивала. Он не был человеком крепкого телосложения, как его более молодой коллега, и только несколько раз задел края карточки, но не смог повторить достижение Энвера.
– Я стрелял не в человека, – пробурчал он, снова садясь в седло. – В него я бы не промахнулся.
Так закончились мои попытки заинтересовать двух самых влиятельных турецких чиновников своего времени в судьбе одной из ценнейших составных частей их империи.
Я уже говорил, что великий визирь Саид Халим не был влиятельным человеком. Номинально его должность была самой важной в империи; в действительности великий визирь занимался лишь тем, что грел место, на котором сидел, а Талаат и Энвер контролировали его так же, как султана. Теоретически послы должны были вести переговоры с Саидом Халимом, являвшимся министром иностранных дел, но я довольно быстро обнаружил, что с ним ничего невозможно решить, и хотя я продолжал наносить по понедельникам протокольные визиты, но дела предпочитал улаживать с людьми, обладавшими реальной властью. Чтобы меня нельзя было обвинить в недостаточном использовании всех средств влияния на оттоманское правительство, я решил привлечь внимание великого визиря к армянскому вопросу. Он был не турком, а египтянином, к тому же человеком воспитанным и образованным, поэтому мне представлялось маловероятным, что он не проявит заинтересованности в судьбе своих подданных. Как выяснилось, я ошибся. Великий визирь был настроен к армянам так же враждебно, как Талаат и Энвер. Вскоре я понял, что даже само упоминание об армянах раздражает его чрезвычайно. Очевидно, он не желал, чтобы его покой тревожили такими неприятными и совершенно не важными пустяками. Открыто великий визирь продемонстрировал свое отношение, когда греческий поверенный заговорил при нем о преследовании греков. Саид Халим сказал, что такие заявления принесут грекам больше вреда, чем пользы.