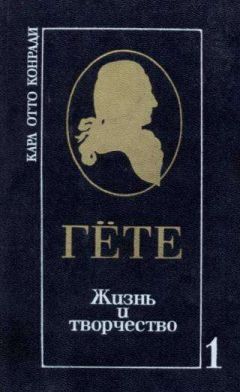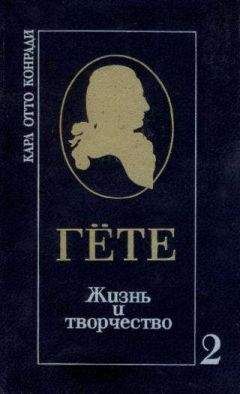249
«…прилизанная картинка; и вся окружающая красота не в силах перекачать у меня из сердца в мозг хоть каплю воодушевления…» (6, 71).
Вертер хочет ощущать много, но всегда, только исходя из себя. Отдаться целиком своему субъективному ощущению равносильно для него полному отказу от какой–либо активной деятельности. Показывая это, Гёте тем самым осветил всю проблематику субъективности чувств, права которых молодое поколение отстаивало с таким упорством. Все, что Вертер узнает и ощущает, он тотчас же проецирует на себя, «губит себя спекулятивными размышлениями», говоря словами самого Гёте, размывает все в словах, «расписывает», так сказать, в своих письмах.
Внимательный читатель вскоре замечает, что автор этого романа вовсе не стремится вознести хвалу своему «бедному Вертеру». В письмах ощущается критическое отношение к нему. Но Гёте пришлось признать, что он переоценил читателя. В «Поэзии и правде» он говорит на эту тему в связи с «Вертером»: «Нельзя спрашивать с публики, чтобы она творение духа воспринимала столь же духовно. В сущности, внимание ее было привлечено только содержанием «Вертера», его материей, в чем я мог уже убедиться на примере своих друзей, а наряду с этим снова всплыл старый предрассудок, основанный на уважении к печатному слову: каждая книга, мол, непременно задается дидактической целью. Но художественное отображение жизни этой цели не преследует. Оно не оправдывает, не порицает, а лишь последовательно воссоздает людские помыслы и действия, тем самым проясняя их и просвещая читателей» (3, 498).
Книга о страданиях Вертера не оправдывает и не порицает. Но некоторые места, где Вертер по воле своего автора «последовательно воссоздает (свои — Н. Б.) помыслы и действия», читатель воспринимает как ироническую характеристику героя. Взрыв чувств в письме от 10 мая 1771 года выливается только в сетования по поводу того, что «величие этих явлений» подавляет. В тех местах, где цитируется Гомер и Клопшток, странное впечатление производит контекст, он заставляет усомниться в том, что Вертер действительно может «без натяжки» переносить мысли этих поэтов в свое «собственное повседневное существование» (6, 26).
Все еще остается открытым вопрос, почему Вертер действует так, как он действует. В последние годы
250
давали два разных ответа на этот вопрос. Один ответ гласит, что речь идет здесь о весьма проблематичной субъективности именно этого Вертера, о его «смертельной болезни» (12 августа 1771 г.). Другой утверждает, что Вертер стал жертвой общественных условий, они были причиной его жизненного краха. Эти односторонние ответы, однако, не исчерпывают все сложности проблематики романа о Вертере.
Вертер терпит крушения не только из–за ограниченности человеческих возможностей вообще или из–за своей обостренной субъективности; из–за этого в том числе. Также надо сказать: Вертер терпит крушение не только из–за общественных условий, в которых он должен жить и жить не может, из–за них в том числе. То и другое надо рассматривать вместе. В письмах от 26 мая 1771 года и 24 декабря 1771 года Вертер сам говорит о буржуазном обществе и невыносимых буржуазных порядках. Никакой интерпретатор не сможет игнорировать его высказывание в письме от 26 мая 1771 года: «Много можно сказать в пользу установленных правил, примерно то же, что говорят в похвалу общественному порядку. Человек, воспитанный на правилах, никогда не создаст ничего безвкусного или негодного, как человек, следующий законам и порядкам общежития, никогда не будет несносным соседом или отпетым злодеем. Зато, что бы мне ни говорили, всякое правило убивает ощущение природы и способность правдиво изображать ее» (6, 15). Никто не станет отрицать того, что Вертер был глубоко оскорблен, когда ему пришлось покинуть аристократическое общество из–за своего бюргерского происхождения (15 марта 1772 г.). Правда, он оскорблен скорее в человеческом, чем в бюргерском достоинстве. Именно человек не ждал такой низости от изысканных аристократов. Однако Вертер не возмущается неравенством людей в обществе. «Я отлично знаю, что мы не равны и не можем быть равными», — написал он еще 15 мая 1771 года (6, 11). И гораздо позднее, 24 декабря, уже находясь на службе в посольстве: «Я сам не хуже других знаю, как важно различие сословий…» (6, 53).
Многое в романе о Вертере осталось недосказанным. Это связано с исторической ситуацией, в которой жили автор и герой. Вертер произносит, правда, такие слова, как «невыносимые буржуазные порядки», но это всего лишь общие места. Такого же сорта критикой являются высказывания вроде: совершенно бессмысленно, когда один человек «в угоду другим…
251
трудится ради денег, почестей или чего–нибудь еще» (6, 35), или «но если кто в смирении своем понимает, какая всему этому цена, кто видит, как прилежно всякий благополучный мещанин подстригает свой садик под рай и как терпеливо даже несчастливец, сгибаясь под бременем, плетется своим путем, и все одинаково жаждут хоть на минуту дольше видеть свет нашего солнца, — кто все это понимает, тот молчит и строит свой мир в самом себе и счастлив уже тем, что он человек» (6, 13—14).
Вертер уходит в сторону, он не может стать ни бунтовщиком, ни реформатором. Не может потому, что этого не допускала ни ограниченность его политического видения, ни его человеческие качества (здесь скрещиваются основные проблемы романа). Вертеру тесны и неудобны буржуазные нормы поведения, которые регламентируют и дисциплинируют, направляя каждого на достижение внешних целей (деньги, успех, доброе имя), и при этом подавляют его личное я. Изгнание из аристократического общества больно ранит его самолюбие, однако он не осознает, что структура феодального общества неприемлема в принципе. На то и другое он реагирует субъективно, что, впрочем, с самого начала ведет к экзальтации и саморазрушению. Возможно, что при любом общественном укладе такой Вертер страдал бы от ограниченности человеческих возможностей и губил себя спекулятивными размышлениями.
В последнее время высказывается мысль, что в «Вертере» в критическом аспекте рассматривается также буржуазное понятие чести и нормы поведения, что причиной крушения Вертера стало то, что его любовь к Лотте не могла осуществиться именно из–за этих понятий. Эти предположения чистейшая схоластика. Разумеется, и тогда был возможен развод. К тому же в романе нигде нет и намека на то, что Лотта когда–нибудь всерьез думала о разрыве с Альбертом. Правда, во время последней встречи, после чтения Оссиана, лед, казалось бы, сломан. Но решение Лотты однозначно: «Это последний раз, Вертер, Вы больше не увидите меня». Безумная страсть, о которой Вертер говорит в своих письмах и которую подтверждает издатель, не может быть приписана также и Лотте, хотя она и колеблется временами. Упрекать ее в том, что общественные табу слишком укоренились в ней, чтобы она могла принять свободное решение, — это такая трактовка, которая лежит за пределами текста романа да к