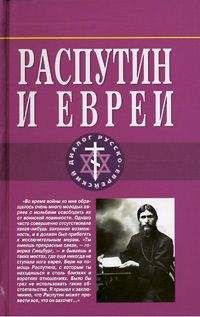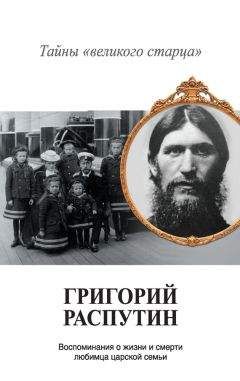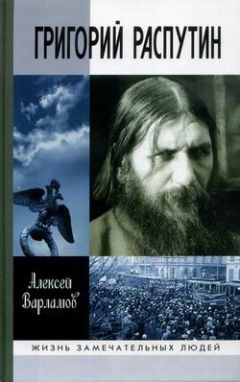Обрученная с Николаем, старшим братом Феликса, готовая окунуться в роскошества взаимной супружеской любви, Мария Евгеньевна вместо этого была брошена в пропасть предательства. Николай дрался на дуэли и погиб. Стало известно, что причиной была женщина, его давняя любовница, связь с которой началась задолго до знакомства с Марией Евгеньевной.
Мария Евгеньевна пришла к отцу за утешением. Она рыдала, умоляла «вылечить от тоски».
Анна Александровна передавала мне со слов Марии Евгеньевны, что отец спросил:
— Какая тоска? Как томление или как язва?
— Не понимаю, — ответила Мария Евгеньевна.
— Как тоскуешь, как Иосиф в земле египетской или боле?
— Больше.
— Что, знаешь как Иосиф тосковал?
— Не знаю.
— Зачем говоришь, что боле? Лестно?
Бедная Муня, сбитая с тона, молчала.
Что говорилось дальше — не знаю. Сейчас это уже и не важно. Ни для Муни, ни для меня.
Знай меру
Отца считали специалистом в области любви. Ходили невероятные слухи о его способностях по части любви телесной. Конечно, отец в разговорах со мной никогда не касался этой темы. Хотя и ханжой не был. Он иногда выговаривал такое, о чем в так называемых приличных домах и не заикались. Например, мог откровенно описывать достоинства фигуры той или иной посетительницы или случайно встреченной на улице дамы:
— А груди-то у ей какие! Экая мясистая!
Такие замечания еще были скромными. Но всякий раз заключал он свое восхищение (или негодование) вздохом:
— Даст же Бог такую красоту!
Или:
— Пометит же Бог такой напастью!
Все телесное он воспринимал с тою естественной непосредственностью, с какой приветствовал пищу, явления природы. Его реакция была немедленной и потому могла шокировать мало знавших его.
Как-то в прекрасную пору белых ночей гости у нас засиделись. Отец, и без того не слишком сверявший жизнь с часами, летом и вовсе терял ощущение времени. Белые ночи зачаровывали его, и беседы до утра в нашем доме (уже на Гороховой) не были редкостью.
Но вот наконец все разошлись. Остался только один посетитель. Купец, человек замечательный в своем роде — известный благотворитель, создатель детского приюта в Екатеринославе (оттуда он, кажется, и был родом).
Пока народу было много (обычный кружок — по преимуществу дамы), мы с Дуней хлопотали у стола и не слишком вникали в суть беседы. Но я все же уловила главное. Обсуждалась проблема супружеских отношений. Что должно преобладать: телесное или духовное. Сошлись на том, что духовное.
И вот последний гость медлил. Видно, что-то важное осталось недосказанным.
Я присела у стола — выпить чаю. За весь вечер ни минутки не отдыхала. Купец, степенно поглаживая бороду (не такую, как у моего отца, а пушистую, и даже, как мне почудилось, надушенную), спросил, словно продолжая начатое раньше:
— Духовное, конечно, главное. Кто ж тут спорить станет. А только и тело своего требует. Вот я уже в годах, а грешен.
Отец отвечал:
— Вот и дамочки мои долдонят — духовное, телесное. Будто делят.
— А вы, Григорий Ефимович, не делите?
— Делю. Однако тут дело такое… Ты вот пищу вкушаешь, радуешься. Солнышко видишь — тоже радуешься. Красавица какая пройдет — глазу приятность… Чревоугодие — грех. А голод утолить… с молитвой… какой грех? Жизнь. На небе, верно, и пищи не вкушают, и с красавицами бестелесными не грешат. Так на то и небо. А тут — земля, дело другое.
— Так и хлысты говорят… — гость почти с возмущением поглядел на отца.
— Хлысты! Они в Бога не веруют. У них и радость смердит. Ты меру знай — вот что я говорю! Как природой положено, так тому и быть.
Гость пребывал в недоумении. Отец продолжал:
— Вот мы ночью сидели, а светло было, как днем. А Господь-то наверное тьму сотворил не напрасно. Ночи эти белые его волей тоже сотворены. Или сияние северное. Красиво? А то нет! А ведь люди-то, когда сияние, по полгода света белого не видят. И красиво, и тягостно. А только опять же воля Божья. Так ты давай против белых ночей или против северной темноты восстань. Дескать, неудобно тебе. Принимаешь ведь как есть. Ничего, живешь. А мужчину с женщиной сотворил как? Чтоб не в грехе жили. А потом попустил, чтоб грех узнали! Что ж, Змей сильнее Бога? Как бы не так. Так уж им предугадано было, чтоб узнали, какой он, грех, есть. Только меру знай! Я вот вериги носил и плетью себя смирял. А ничего. В голове все образы носились. Совсем, думал, надо оскопиться, что ли… А потом решил: не для того Бог мужику дал, что дал, а бабе — бабье. Конечно, для продолжения рода человеческого… А, считаю так, что и для постижения тайны. Что за тайна? Сам размышляю. Не надумал еще. Но думаю все же, для меры.
— Как это, Григорий Ефимович?
— А вот если ты с ней, а про деньги, скажем, думаешь или про хозяйство — тогда грех. А ежели про чистое, про детей своих, про красоту какую — тогда правильно. Тогда, значит, мера здесь правильная положена.
Отец увлекся и только тут заметил меня. Я сидела вся красная, мне казалось, что вот-вот упаду со стула со стыда. Отец же нисколько не смутился.
— Вот у меня дочки растут. Я их учу — во всем меру знай.
Я вскочила и опрометью бросилась в свою комнату. На следующий день отец подозвал меня и тихо-тихо спросил:
— Все вчера слышала?
— Ну, не все.
— А чего не слышала?
Я невольно выдала свое любопытство, запретное, по моему мнению, и оттого сильно смутилась.
— Ну-ну, — приобнял меня отец. — Ты уже невеста. Давно мне надо бы объяснить… Да только ведь невозможно! Как объяснить?
Отец махнул рукой и видно было, что он расстроен. Больше мы к этому щепетильному вопросу не возвращались.
Жизнь без смерти
К отцу повадился ходить один человек. Малоизвестный в свете. Очень приличный, образованный, даже европейский. Обычно он сидел молча и не принимал участия в общем разговоре. Казалось, его мало интересует все, о чем говорят. Ходил он этак с полгода. (Надо заметить, что у отца было правило — ни за что не спрашивать, чего ради человек ходит, если тот не заявлял об этом сам.)
И вот однажды собрался кружок как раз после смерти Петра Аркадьевича Столыпина. Известно, что отец того не слишком жаловал, но, по его словам, «к живому один счет, а к мертвому — совсем другой». Говорили же не столько о персоне, сколько о смерти вообще и ее нелепости в этом случае. И тут впервые привычный гость подал голос.
— А что, не было ли такого случая, чтобы человек совсем не умирал?
Собравшиеся в недоумении посмотрели в его сторону.
— Как это, совсем не умирал? Телесно?
— Именно телесно.