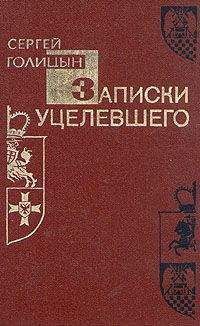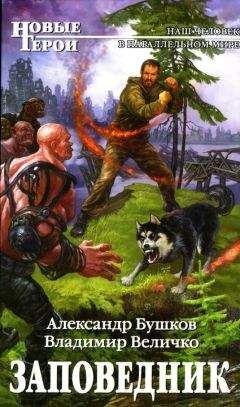Самым главным, о чем думали, но почти не говорили между собой в семье Осоргиных, был томившийся в Бутырской тюрьме Георгий. Моя сестра Лина тесно сблизилась с их семьей на почве общего горя. Все они искренно полюбили ее.
Тоня, вернувшись с концерта Софроницкого, восторженно передавала свои впечатления, попутно чуть-чуть колола заочно того ее поклонника, который водил ее на концерт, опять переходила на рассказ о музыке и вдруг на минуту замолкала… Она вспоминала Георгия.
Дядя Миша играл в шахматы лучше меня и вдруг делал ошибочный ход… Я понимал, что он вспоминал Георгия.
Тетя Лиза рассказывала какие-то эпизоды из своего детства — и прерывала рассказ. Она вспоминала Георгия…
Моя сестра Лина очень переменилась. Была живой, подвижной, веселой стала серьезнее. Мысли о муже никогда не покидали ее, даже во время очередной болезни маленькой Мариночки, кумира и утешения их семьи…
И молитвы всех их, особенно жаркие у дяди Миши, сдержанно затаенные у тети Лизы, были прежде всего о Георгии, чтобы он вернулся… А воскресные свидания с ним продолжались.
Неожиданно в "Рабочей газете" появилась заметка "Комбинации в комбинате", в которой доказывалось, что учреждение, где работал мой отец, существует неизвестно зачем, что объединение в одно целое самых различных предприятий — просто нелепо.
Да, покровитель этого пестрого комбината — товарищ Троцкий был выкинут из когорты вождей, и потому в комбинате начались сокращения.
Однажды отец пришел совсем растерянный. Его сократили, выдав выходное пособие за две недели вперед. Он собирался идти регистрироваться на биржу труда, однако у него было много знакомых, помнивших о его деятельности до революции, ценивших его прежние организаторские способности. Он получил сразу несколько предложений и выбрал Госплан СССР, отдел химии, которую раньше никогда не изучал, и занял должность опять-таки экономиста-плановика. Ходить ему стало ближе, чем раньше. Сие высокое учреждение, возглавлявшееся другом Ленина Кржижановским, помещалось в Китайгороде на Ильинке. И получать отец стал на два червонца больше — целых двести рублей.
Комбинат еще год кое-как существовал, потом был ликвидирован, а еще сколько-то времени спустя его директор Колегаев, как бывший эсер, был арестован и погиб; арестовали и некоторых его сотрудников.
Закрыли "Финансовую газету", где сотрудничал мой отец, но у него нашелся другой подсобный заработок: Владимир устроил его писать маленькие заметки во "Всемирный следопыт". Теперь его брат — Александр Владимирович Голицын вместо биржевых журналов стал ему посылать многокрасочные ежемесячники "Geographical Magazine", наполненные фотоснимками корреспондентов, путешествоваших по всему свету, кроме нашей страны.
Если читателю "Всемирного следопыта" попадется когда-нибудь в руки этот журнал за 1926–1929 годы и он откроет его на двух последних страницах, то обязательно наткнется на небольшие, в двадцать — тридцать строчек, заметки например, о мертвом кашалоте невиданных размеров, выброшенном на Фолклендские острова; об археологических раскопках в Мексике; о ручном тигре, откусившем голову у дочки своего хозяина, и т. д. И пусть читатель знает, что материал для подобных заметок мой отец раскапывал все в том же «Мэгэзине». Он так много находил там занимательного, что подписывался под своими заметками не только инициалами М. Г., но и другими буквами…
Однажды весной 1926 года поздно вечером раздался резкий звонок. Брата Владимира, его жены Елены и сестры Сони не было дома — они ушли в гости к норвежскому посланнику мистеру Урби. Дверь открыл я.
Ворвались сразу четверо, двое в кожаных куртках, двое военных курсанты училища ГПУ, за ними шел заспанный управдом. Предъявили ордер на таком же бланке, как и в прошлом году, и также подписанный заместителем начальника ГПУ Г. Ягодой. Ордер был на обыск по всей квартире, а на арест одного Владимира.
Старший команды сразу объявил, чтобы мы показали все письма из-за границы, все иностранные журналы и книги. А писем от родственников из Франции, США и Китая мы тогда получали много. Хорошо, что я успел с конвертов отклеить марки для своей коллекции.
Мой отец начал было доказывать, для чего ему нужны американские журналы. Его не послушали, и вся стопка легла на обеденный стол рядом с письмами из-за границы.
Тут Владимир открыл своим ключом дверь. Он, Елена и Соня вошли нарядные, только что обменивавшиеся впечатлениями о весело проведенном вечере. Соня потом вспоминала, как хорошо пела дочь мистера Урби Анна-Лиза, аккомпанируя себе на кантеле.
Каждый из обыскивающих занялся определенной комнатой. Курсантам поручили ворошить задние комнаты. Тот курсант, кому поручили обыскивать комнату, где спали мои сестры, а также Леля Давыдова, тетя Саша и няня Буша, тотчас же начал заигрывать с моей сестрой Машей. Она отвечала сдержанными репликами.
А драгоценную табакерку с портретом Петра отец из предосторожности еще осенью отдал на хранение тете Саше. Она наполнила ее пуговицами, английскими булавками и кнопками и сунула в узел со своими сорочками и панталонами.
Курсант добрался до этого узла и до табакерки.
— А, Петр Великий! — только и сказал он, потряс ее содержимым и оставил на месте.
Кроме писем из-за границы, иностранных журналов и газет, больше ничего не отобрали. Опять подкатил "черный ворон", и Владимир с одеялом, подушкой, миской, ложкой и кружкой был увезен.
Несколько дней спустя приехал из села Орловки (это бывшее имение Писаревых возле наших Бучалок) не первой молодости крестьянин. Он собирался жениться на проживавшей у нас все годы революции верной подняне Лёне. До этого времени она своего жениха и не видела: заочно ее сосватали родственники из той же Орловки.
На ближайшее воскресенье предполагалась хорошая свадьба, мой отец должен был ввести Лёну в церковь, да с последующим угощением. Свадьба состоялась, но из-за нашего несчастья очень скромно. Венчание происходило в церкви Троицы в Зубове, я был единственным шафером у невесты, над женихом держал венец его брат. Потом мы пошли в столовую на углу Пречистенки и Зубовской площади, закусили, распили бутылку вина, и всё… А вечером молодые уехали в Орловку.
Года три Лёна переписывалась с тетей Сашей. Муж ее был хорошим, трудолюбивым, непьющим, но в Орловке Лёны чуждались, считали ее барыней: она не умела доить коров, не знала, как вести крестьянское хозяйство. Детей у нее не было. Она тосковала, вспоминала жизнь у нас. И вдруг переписка оборвалась. Через других мы узнали, что ее с мужем раскулачили и отправили в Сибирь. Больше ничего о них не знаю.