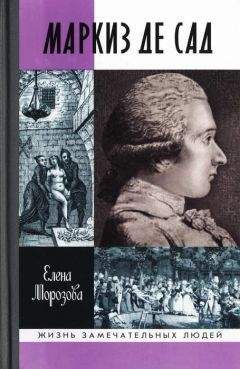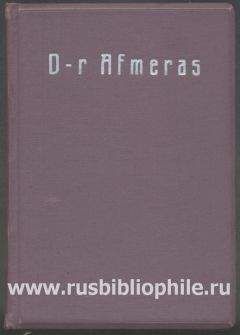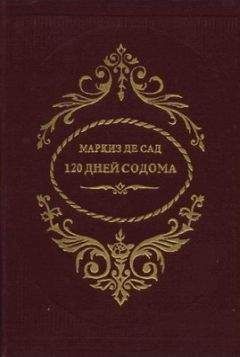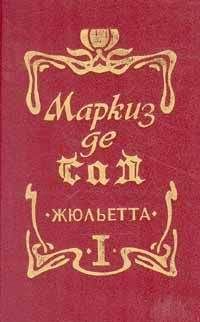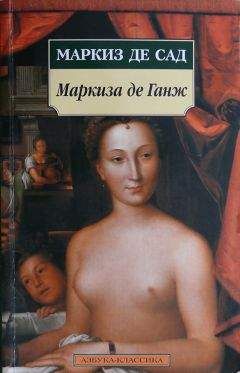Ораторский триумф и успех речи, напечатанной и распространенной не только в секциях Парижа, но и в провинции, окрылил его, заставил забыть о том, что публика в зале бывает разная. Выспренние речи де Сада хорошо звучали с трибун и театральных подмостков, а на заседаниях секции санкюлоты подозрительно косились на гражданина Сада «из бывших», часто говорившего малопонятным языком и поминавшего слишком много неизвестных богов. Пантеон «добрых санкюлотов» прошлого в основном сформировался, и первым в нем числился Иисус Христос, которого гражданин Сад не упоминал никогда. Глядя, как приумножались празднества и церемонии революционного культа, как священники массово отрекались от своих заблуждений и клялись служить одному лишь разуму, проповедовать философию и высокие принципы морали, как депутации патриотов слагали к подножию трибун обломки и обрывки атрибутов католического культа, Сад насмешливо потирал руки. Наконец-то он сможет открыто продемонстрировать хотя бы часть своего «образа мыслей», а именно свои атеистические убеждения, которым он не изменял никогда. В согласии с «образом мыслей» де Сада Коммуна Парижа издала специальное постановление о ликвидации в столице религиозных культов и учреждении Дня разума. Правда, новый культ копировал ритуалы и церемонии культа изгнанного: вместо крестного хода — гражданская процессия, вместо святых, статуй и реликвий — герои и мученики, статуи и реликвии революции, а также алтари, благовония и речи о добронравии, морали и необходимости уничтожать врагов добродетели. «Где нет добрых нравов, там нет республики».
Театрализованный характер отправлений нового культа Разума не мог не привлечь внимания де Сада, и он наверняка отправился посмотреть на грандиозное торжество в честь Разума, устроенное в соборе Парижской Богоматери, превращенном в Храм разума. Посреди храма была воздвигнута символическая гора, увенчанная храмом философии в окружении бюстов Вольтера, Руссо, других служителей богини философии. На склонах горы пылал священный огонь истины. Де Сад не мог не оценить такие замечательные декорации. У себя в секции он наверняка говорил о них с восторгом, особенно о прекрасной гражданке Майар, изображавшей богиню Разума. И когда несколько парижских секций отправили своих представителей в Конвент, дабы те от имени членов секций отреклись от всех культов, кроме культа Разума, депутацию от секции Пик возглавил гражданин Сад; он же стал автором петиции, ему же было поручено зачитать ее.
Высказав свое удовлетворение по поводу установления царства философии, Сад косвенным образом напомнил о своем героическом прошлом узника «за убеждения»: «Уже давно философы тайно смеялись над кривляньями католических попов, однако тот, кто осмеливался высказать свои убеждения в полный голос, тотчас оказывался в Бастилии, где прислужники деспотизма умели быстро заставить его замолчать. Вы говорите, деспотизм не поддерживал суеверия?
И деспотизм, и суеверие вышли из одной колыбели, оба они сыновья фанатизма, оба имели верных слуг в лице бесполезных для общества священников, обитавших в храмах, и деспотов, восседавших на тронах. И деспотизм, и суеверие имеют общие корни, а потому, когда речь заходит об их уничтожении, они сопротивляются вместе». Далее де Сад подхватил звучавшую со всех трибун и на всех празднествах тему добродетели. «Пусть каждую декаду с трибун наших храмов, которые в этот день будут открыты для всех, станут звучать хвалы Добродетели, почитаемой в этом храме, а также имена тех граждан, которые отличились усердным ей служением. Пусть там исполняются гимны в честь Добродетели; пусть курится фимиам у подножия алтарей, возведенных в честь Добродетели; и пусть каждый гражданин, выходя из храма после этой церемонии, ощущает себя достойным такого правительства, как наше, и с еще большим рвением исполняет веления Добродетели, кою он только что чествовал. И пусть супруга его и дети следуют за ним по пути Добродетели, всеобщего счастья и пользы. Таким образом человек сделается чист, а душа его, открытая для истины, проникнется добродетелью, в то время как прежде она питалась исключительно пороками, коими ее отравляли религиозные шарлатаны».
Под этими словами мог бы подписаться и гражданин Шамуло, предложивший называть площади и улицы именами добродетелей, ибо тогда «добродетель во всех ее видах не будет сходить с уст народа!», и многие другие ораторы. Но у гражданина Сада вновь не хватило политического чутья: он не заметил, как мрачно взирал на оголтелых дехристианизаторов Робеспьер. Неподкупный всегда считал, что атеизм присущ только безнравственным аристократам, народ же в своей массе религиозен. В этом де Сад с ним был полностью согласен. «Только аристократы не верили в Бога», — писал он. Значит, надо было дать народу новую религию, претворить в жизнь высказывание Вольтера: «Если бы Бога не было, его следовало бы выдумать». И Робеспьер провозгласил культ Верховного существа, отвергавший небытие и утверждавший бессмертие души и культ гражданских добродетелей, то есть все те ценности, которые вызывали отвращение у гражданина де Сада.
Предложения ввести в революционный пантеон Верховное существо уже поступали, но окончательное утверждение культ получил в 1794 году, после майской речи Робеспьера. 8 июня 1794 года в Париже прошло пышное празднество в честь Верховного существа, на котором главная роль была отведена Робеспьеру. В голубом фраке и золотистых панталонах председатель Конвента поджигал картонные фигуры Атеизма, Эгоизма, Раздора и Честолюбия, освобождая дорогу Мудрости. Но, увы, костер разгорелся сильнее, чем предполагалось, и лик Мудрости явился перед собравшимися черным. Возможно, это было знамение: через два дня, 20 июня, был принят печально знаменитый закон 22 прериаля, упразднявший судебную процедуру и устанавливавший смертную казнь по всем делам, подлежавшим ведению Революционного трибунала. Судьи выносили приговор на основании «внутреннего убеждения», при этом понимая, что, если их «убеждения» не совпадут с убеждениями правящего блока якобинцев, они рискуют оказаться на месте подсудимых. Террор становился повседневным, будничным кошмаром. Жертв судили уже не по отдельности, а группами — для скорости; постановление и приговор также были общими.
Выступая в своих жестоких романах апологетом преступления как веления природы, де Сад не находил оправдания Террору, не мог согласиться с убийством за неправильный идеологический выбор, не мог принять бесконечную «Варфоломеевскую ночь, освященную законом» и культа гильотины, прекрасно уживавшегося с культом Верховного существа. Накануне своего ареста он писал нашедшему убежище в Риме кардиналу де Берни: «Дорогой кардинал, нам грозит страшное несчастье, я до сих пор в себя прийти не могу. Похоже, тиран (так именует де Сад Робеспьера. — Е. М.) вместе со своими подручными исподтишка готовится восстановить обожествляемую химеру. Судите сами, шутовство еще то… <…> Поверите ли вы, если я скажу, что тайное евангелие новой религии, установление которой, я надеюсь, все же пока не произойдет (хотя мы движемся к нему семимильными шагами) сводится к постулату «Возненавидь ближнего как самого себя»? <…> Представьте себе: мы-то уже решили, что истребили лицемерие, а тут нате, нам готовят новый спектакль. После всего этого моря крови — знаете что? Держу сто, тысячу, сто тысяч против одного: Верховное существо] Не смейтесь, это напыщенное название все той же Химеры, нам просто поменяли на марионетке костюм…»