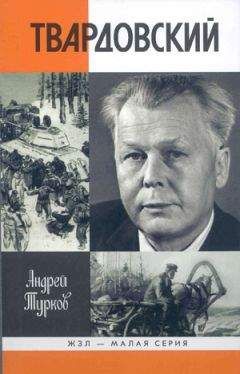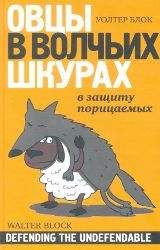Последний только что, в самом начале февраля, выступил на обсуждении журнальной прозы минувшего года с грубой демагогической речью о поэме «По праву памяти» и назвал ее «кулацкой».
Газетное сообщение о переменах в редакции составили так, что можно было подумать, будто поэт на заседании присутствовал и принимал участие в обсуждении.
Словом, было сделано все, чтобы, как давно мечталось «автоматчикам», «выманить медведя из берлоги», поставить поэта в глубоко оскорбительное и совершенно невыносимое положение. Его обращение в ЦК с протестом против решения секретариата осталось без ответа.
Двенадцатого февраля Твардовский подал заявление об уходе, немедленно удовлетворенное, но еще несколько дней приезжал в редакцию в тщетном ожидании встречи с Брежневым, которому написал о «фактическим разгроме» «Нового мира», предостерегая:
«Осуществленные ныне мероприятия по „укрощению“ журнала не могут не иметь… самых отрицательных последствий, не только литературных, но и политических. В широких кругах наших читателей они неизбежно будут восприняты как рецидив сталинизма».
Однако «политический деятель ленинского типа», как угодливо именовали генсека, не соизволил ни принять «опального», ни ответить на его письмо.
Не возымели действия и многочисленные писательские обращения к «верхам».
«У нас нет поэта, равному ему по таланту и значению», — говорилось о Твардовском в письме, отправленном еще 9 февраля А. Беком, В. Кавериным, Б. Можаевым, А. Рыбаковым, Ю. Трифоновым, А. Вознесенским, Е. Евтушенко, М. Алигер, Е. Воробьевым, В. Тендряковым, Ю. Нагибиным и М. Исаковским.
«…Получив письмо, Брежнев поморщился, — вспоминал Анатолий Рыбаков. — „Что за коллективки такие? Пусть придут в ЦК, поговорим“.
„Коллективками“ назывались коллективные заявления, в армии они были запрещены, полагалось писать только индивидуальные рапорты…
Нам передали, что в понедельник писательскую делегацию (не более пяти человек) по поручению ЦК примет товарищ Подгорный. О часе приема будет сообщено в редакцию „Нового мира“.
…Прождали до полуночи. Никто не позвонил» (Рыбаков А. Роман-воспоминание. М., 1997).
Восемнадцатого февраля, как стало известно, Брежнев дал согласие на вынужденную отставку Твардовского.
«В пятницу (20 февраля. — А. Т-в) простился с редакцией, обошел все этажи и комнаты…» — записано в рабочей тетради поэта. А Дементьев предложил каждый год в этот день собираться — «пока будем живы».
За рубежом произошедшее с «Новым миром» вызвало, по словам Твардовского, «цунами». Писали, что его отставка «олицетворяет собой конец целой эры».
Нечего говорить, что в советской печати ничего подобного не было. Об уходе Твардовского, в сущности, не сообщалось. И отклики на это событие поневоле носили устный или «нелегальный» характер. Появился, например, листок «После умерщвления „Нового мира“. Вместо некролога». Автор, философ Г. Г. Водолазов, писал, что власти и не могли сказать о произошедшем правду, потому что это «значило бы обнаружить перед всем миром действительное бессилие противостоять могучему духовному влиянию журнала духовными же средствами…».
«Очевидно, ничего другого, как исключить Солженицына, снять Твардовского, им не оставалось, — занес в дневник и Борис Бабочкин. — Даже, я бы сказал, осуществилась их заветная мечта: теперь картина будет уж совсем гладкая».
А живший в Костроме критик Игорь Дедков, прочитав «меленько набранное и неприметно заверстанное» в «Литературной России» сообщение о смене редколлегии, записывал в дневнике: «Так узнают обычно о несчастиях. Сразу. То, что произошло и что еще произойдет (отставка Твардовского и др.) — собственно, это одновременное, как бы ни хотели отделить Твардовского от других, — это происшедшее еще трудно оценивается, но на душе скверно, как при встрече с неизбежным. Едет огромное колесо — верхнего края обода не видно — и давит».
«Вполне здоров», — записано в рабочей тетради поэта в день, когда исполнился «ровно месяц, как принято решение об удовлетворении просьбы т. Твардовского» (об отставке). В последних словах нетрудно услышать и гневный, горький сарказм, и скрытую боль. Недаром на той же странице сказано: «записывать нет сил».
Лишь через несколько дней Александр Трифонович вернется к разговору о «здоровье». «Нынешняя моя весна света, — пишет он в конце марта, вероятно, припомнив излюбленное пришвинское выражение, — как после многолетней болезни оклемаюсь (оклемываюсь? — А. Т-в), еще не веря, что „болезнь“ позади. Именно, что болезнь — 12 лет (второй срок редакторства. — А. Т-в) без передышки (с „передышками“ известного рода, без отпусков и сроков). Как бы болезнь непонимания, невнимания к тому, что нельзя (не поощряется, запрещено. — А. Т-в) (авось, можно). Выбиваясь из хомута, боком, боком по скользкой глине изволока, под кручу, с замираньем в груди (сорвусь!), с мукой и отвращеньем и только с неизменным сознанием, что бросить нельзя — совесть заест. И весь мир понял, что „Новый мир“ тянул до последнего часа свой непомерной тяжести воз. Дотянуть заведомо нельзя было, но в том же и суть, что тянули, несмотря на эту заведомую невозможность дотянуть».
Замечательная по выразительности и страстности характеристика осиленного пути!
Еще когда после вторжения в Чехословакию над журналом стали сгущаться тучи, поэт невесело пошутил:
— Ну, если они снимут нас, то это уже бессмертие!
И в самом деле, разгром «Нового мира» — это одна из таких же трагических и памятных вех отечественной истории, как прекращение некрасовского «Современника» и щедринских «Отечественных записок».
«…Салтыкову это потеря личная, потеря родного детища», — писал один из друзей великого сатирика.
То же можно сказать о Твардовском.
Глава двенадцатая
«ВСЕ ТОНЬШЕ СЛОЙ ОСТАТНИХ ДНЕЙ…»
Что касается меня, то я покуда чувствую только повсеместную боль. Чувствую также, что я лишен возможности периодически беседовать с читателем, и эта боль всего сильнее…
Из писем Салтыкова-Щедрина после закрытия «Отечественных записок»
…И как он будет жить без своего редакционного дела?
Из переписки его друзей
Когда-то в самый разгар работы над «Тёркиным» поэт признавался жене, что его «охватывает порой такое тревожно-радостное чувство, такое ощущение честного счастья, как если бы… совершил подвиг».
В одном же из стихотворений поздних лет он высказался о сделанном в свойственном ему улыбчивом, чуть ли не тёркинском тоне: