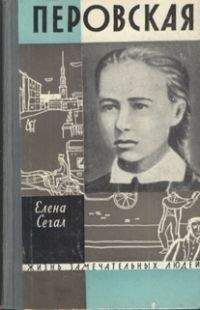Создать отряд рабочих под командой смелых, волевых офицеров, прорвать ряды войск, когда осужденных повезут на казнь, вырвать пленников из когтей врагов — вот что кажется ей вполне возможным.
Она не дает себе ни секунды отдыха. В городе ходят слухи, что Желябова и Рысакова будут судить военным судом и казнят не сегодня-завтра. Ее планы рушатся один за другим, но она не опускает рук. Тырков помогает ей во всех начинаниях.
Она знает, друзья говорят про нее: «Соня потеряла голову», но они ошибаются. Никогда еще мысль ее не работала так четко. Им кажется, что она сошла с ума, потому что надеется спасти Желябова. Но разве то, на что они все шли вместе с тем же Желябовым, разве решение освободить Нечаева не было таким же безумием? А освобождение централочных? Пусть оно не удалось, но разве она не отдала этому делу год жизни? Так неужели же оставить погибать Желябова, без которого так трудно себе представить дело, Желябова, который так дорог ей самой?
Друзья уговаривают Соню хоть на самое короткое время уехать за границу. В их среду проник слух, будто бы Лев Николаевич Перовский каким-то образом передал дочери заграничный паспорт. Но если это и не так, то Рина (Анна Михайловна Эпштейн) берется перевезти ее через границу, а Анне Михайловне можно довериться.
Но Соня и слышать не хочет об отъезде.
— Разве мы можем, — говорит она, — оставить свои позиции? Какие вопросы рождаются, какое движение везде, какая жизнь! Мы должны напрячь все силы, чтобы еще немного открыть глаза народу.
В Петербурге — слухи, слухи. А Соне нужно точно знать, когда будет суд, что думает правительство.
Она вспоминает, что у Рины в департаменте полиции есть знакомый генерал, который в глубине души сочувствует революционерам.
Рина по Сониной просьбе согласилась пойти к генералу.
Генерал сообщил самые точные сведения: участь подсудимых бесповоротно решена. Суд будет только для публики.
В шесть часов Рина пришла туда, где должна была встретиться с Соней. Соня пришла только в девять, усталая, бледная.
Рина сразу же рассказала ей, что знала.
«Когда я подняла глаза, — вспоминала потом Рина, — то увидела, что она дрожит всем телом. Потом она схватила меня за руки, стала нагибаться все ниже и ниже и упала ничком, уткнувшись лицом в мои колени. Так оставалась она несколько минут. Она не плакала, а вся была как в лихорадке. Потом она поднялась и села, стараясь оправиться, но снова судорожным движением схватила меня за руки и стала сжимать их до боли…»
На столе шумел самовар. В столовой было уютно и тепло, а Соня дрожала, как будто все окна были распахнуты и ветер ворвался в комнату. Рина снова заговорила:
— Не съездить ли мне в Одессу, вызвать его родных?
— Нет, — ответила Соня упавшим голосом. — Слишком поздно.
— Генерал удивился, зачем Желябов объявил себя организатором покушения.
— Иначе нельзя было, — сказала Соня, — процесс против одного Рысакова вышел бы слишком бледным.
— Генерал говорит, что Желябов вел себя все время гордо и благородно. Первого марта его разбудили ночью. Узнав, что царь убит, он сказал: «Теперь у нас большой праздник. Я не принял участия в этом покушении только потому, что был в тюрьме!»
На бледных Сониных щеках вспыхнул румянец, глаза загорелись.
— И потом, — продолжала Рина, — он написал заявление: «Если Рысакова намерены казнить, было бы несправедливостью сохранить жизнь мне». Генерал говорит, что Желябов знает об ожидающей его казни и выслушал это известие с поразительным спокойствием.
Соня глубоко вздохнула и закусила губу.
— Говорят, Рысаков выдает, — после минутного молчания сказала Рина. — Генерал отрицает это, не знаю почему.
— Нет, он, должно быть, прав, — произнесла Соня не очень уверенно.
Она говорила мало, кратко, отрывисто, несколько раз спохватилась, что уже ночь, повторяла: «Надо идти», но не имела сил встать.
Наконец Соня заставила себя одеться и выйти на улицу. Зима опять вернулась после нескольких теплых дней. В снежной мгле смутно появлялись и исчезали одинокие фигуры прохожих. Соня шла, сама не зная куда. У партии было много квартир, куда каждый член Исполнительного Комитета имел право прийти, как к себе домой. Но она слишком хорошо знала: тем, у кого ее найдут, несдобровать.
После долгого раздумья Соня решила пойти на Вознесенский.
— Верочка, можно у тебя ночевать? — спросила она Веру Николаевну, которая открыла ей дверь.
Вера Николаевна посмотрела на нее с удивлением и упреком.
— Как это ты спрашиваешь? Разве можно об этом спрашивать?
— Я спрашиваю потому, что, если в дом придут с обыском и найдут меня, тебя повесят.
Обняв ее, указывая на револьвер, который лежал у изголовья постели, Вера Николаевна сказала:
— С тобой или без тебя, если придут, я буду стрелять.
Запечатлев эту сцену в своих воспоминаниях, Вера Николаевна добавила: «Такова была душа Перовской, частица души ее, потому что только частица ее была приоткрыта мне. В то спешное время мы слишком поверхностно относились к психологии друг друга. Мы действовали, а не наблюдали!»
В то «спешное время» людям некогда было думать и о собственной психологии. За одну ночь арестовали несколько членов наблюдательного отряда, в том числе и Лизу Оловенникову.
Соня услышала об этом рано утром и сразу же бросилась к Сергею Иванову. Она знала: в этот день они должны встретиться.
Оказалось, что Сергей Андреевич уже ходил к Оловенниковой и не попал в засаду только оттого, что его от самых дверей ее квартиры оттолкнула какая-то незнакомая женщина.
— Разве можно так рисковать?! — воскликнул он, увидев Соню. — Ведь это чудо, что я на свободе и вы не нарвались на полицейских.
— От своей судьбы не уйдешь, — непривычно резко ответила Соня. — Да я и сама не хочу этого и не буду прятаться в подполье. Рано или поздно это должно случиться.
Она показалась ему на этот раз взволнованной, нервной, не в пример обычному спокойствию и мягкости.
А волноваться было от чего. По планомерности обысков и арестов чувствовалось, что правительство опомнилось, спохватилось.
«Везде столько полиции, — записала 7 марта у себя в дневнике жена генерала Богдановича, — столько войска, что через них трудно что-либо видеть».
Удар, нанесенный народовольцами в центре, как и следовало ожидать, не вызвал волнений в крестьянстве. Восстания в городе тоже не последовало. Плеханов был прав. Ничего не изменилось, кроме того, что после имени Александр вместо двух черточек появились три.
Многие из рабочих, с которыми Соня продолжала поддерживать связь, считали, что надо было поднять рабочих хотя бы в одном Питере. Они говорили: