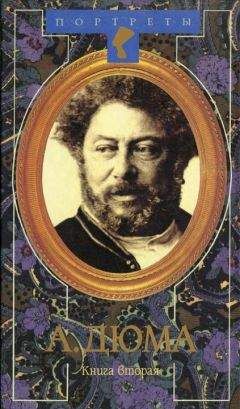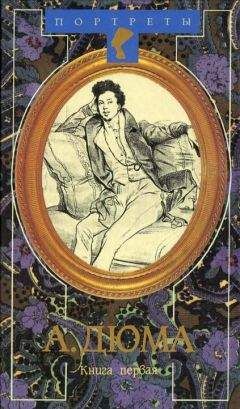В ноябре в сопровождении своей дочери Мари и племянника Альфреда Летелье он гастролирует с лекциями в австрийской империи. Глупо было бы даже и предполагать их неуспех. Из всех стран, которые он посетил, предпочтение он отдавал Венгрии. И неудивительно. Когда он присутствовал на первом заседании Академии в Пеште, «при моем появлении весь зал поднялся и на фоне аплодисментов трижды прокричал национальное приветствие. <…> Если бы Парижская Академия имела бы хоть какие-то отношения со своей сестрой — Академией в Пеште и если бы слышала она эти аплодисменты, она бы со стыда сгорела»[169]. Общество пожарников дарит ему почетный меч. Городской театр играет «Капитана Пола». За ужином «бедный водопей» должен выдержать «с венгерским вином, самым горячительным из всех существующих вин, двадцать пять тостов и на каждый ответить». Во славу знаменитой его теории, которая в подобном поединке отдает пальму первенства непьющим перед пьющими, «я устоял перед моими венгерскими собутыльниками». Хотя предшествующий его опыт тут явно не помешал: «Раз устояв перед собутыльниками грузинскими, можно уже не опасаться никаких других». И, черт побери, как же были желанны проститутки на берегах Дуная! «Как будто бы вся красота, которую искал повсюду и очень редко находил в самых разных местах, сосредоточилась здесь, среди этих жриц Венеры».
В Париж он возвращается в январе 1866. Гонкуры в своем Дневнике[170] записывают: «Посреди разговора белогалстучный, беложилетный, огромный, счастливый, как преуспевающий негр, входит Дюма-отец. Он приехал из Австрии, был в Венгрии, Богемии. Рассказывает о Пеште, где его драмы играли на венгерском языке, о Вене, где император предоставил ему для лекции зал в своем дворце, говорит о своих романах, о своей драматургии, о своих пьесах, которые не хотят ставить в Комеди-Франсез, о запрещении его «Шевалье де Мэзон Руж», об одной театральной привилегии, которой он никак не может добиться, и потом еще о ресторане, который он хочет открыть на Елисейских полях.
Я, огромное я, переливающееся через край, но блещущее остроумием и забавно приправленное детским тщеславием».
Вместе с Мари он переезжает в дом номер 107 по Бульвару Мальзерб, рядом с парком Монсо и готовится к новой театральной битве: премьере «Габриела Ламбера» 16 марта. Сценарий на основе романа 1844 года принадлежал Амадею де Жаллэ, Александр сделал окончательную редакцию. Как обычно, героя, занимающегося подделкой документов, милует Луи-Филипп, но на сей раз как будто и речи нет о проявлении горячей благодарности автора к королю-груше. Директор театра Амбигю-Комик Шилли не поскупился ни на актеров, ни на оформление, и Александр совершенно спокоен:
«Я уверен в моей пьесе; нынче вечером мне на критиков наплевать».
Увы, он говорил об этом слишком громко, премьера прошла бурно, газеты уничтожили пьесу, она выдержала лишь двадцать три представления. Александр опечален, искусство умирает во Франции, и спасти его могут отнюдь не оперетки Оффенбаха, надо, стало быть, срочно воссоздавать Исторический Театр. И он пишет к своим «знакомым и незнакомым друзьям во Франции и за границей». В этом открытом письме, широко опубликованном в прессе, он объясняет, что если и нет у него денег, то зато имеется в наличии солидный капитал популярности и симпатий. И чтобы обратить его в чистоган, он вспоминает историю Алкида [одно из имен Геракла. — Примеч. пер.], воскликнувшего в доме, который вот-вот должен был рухнуть:
«— Либо я подопру потолок, либо он меня раздавит.
Потолок рухнул, и, подобно Портосу, этому атлету новых времен, античный герой был погребен под его обломками.
Драматическое искусство во Франции рушится, и в то время как все бегут от красоты и простоты, я, столь же самонадеянный и безумный, как Алкид, говорю:
— Уж лучше, как Алкид, попытаться удержать дом от разрушения, чем, как Самсон, разрушить храм, будь он даже храмом филистимлян.
Пусть те, кто верит, что драматическое искусство по-прежнему там, куда привели его люди 1830 года, придут ко мне и скажут:
— Мы хотим два билета в новый Исторический Театр, чтобы снова рукоплескать тому, чему рукоплескали когда-то, и чтобы сыновья наши могли аплодировать тому же, чему аплодировали их отцы!
И пусть они подпишутся на приемлемую для них сумму, дабы то, что пока существует лишь как проект, то есть мечта, стало бы реальностью, то есть свершившимся фактом.
Пока не будут собраны по подписке пятьсот тысяч франков, ни один взнос не будет сделан, и поскольку взнос этот будет передан одному из самых известных в Париже банкиров, все расходы должны производиться лишь мной одним, тогда в случае неудачи проекта вся ответственность падет лишь на меня одного.
Пусть каждый из моих знакомых и незнакомых друзей поможет мне своими собственными средствами и средствами своих друзей, и сим воздастся мне за сорок лет беспрестанного труда, дающего право на несколько этих, возможно, слишком горделивых строчек, подписанных моим именем!» Память о крахе Исторического Театра еще жива, и почти никто денег не дает. Некоторым утешением служит скромная складчина учащихся Политехнической школы. «Это облегчило осознание полного равнодушия, с которым широкая публика отнеслась к его проекту, — отмечает Ферри. — Равнодушие к его призыву нанесло ему удар; он увидел в нем знак снижения своего влияния, популярности, значимости». Другой признак потери авторитета — неуспех «Новых мемуаров. Последние любовные увлечения», опубликованных в газете Моисея Милло «Soleil». Это были в основном тексты 1855 года, написанные для Эммы Маннури-Лакур, которые Александр даже не дал себя труда перечитать. В результате смерть Мари-Луизы, например, он относит к прошлому семнадцатилетней давности, тогда как на самом деле прошло уже двадцать восемь лет. Бывшие дорогие читатели вовсе не в восторге от перепутанных между собой историй — любви к Изабелле Констан, жизни Жерара де Нерваля, их совместного путешествия в Германию, дружбы с Наполеоном-Жозефом Бонапартом. 22 марта 1866 года «Новые мемуары» начинают печататься на первой странице, на самом видном месте. В последующие дни они отступают уже на третью страницу, потом на третью с переходом на четвертую по соседству с «Делом Леруж» Габорио. 4 мая публикация остановлена, как раз на похоронах Фердинанда. Ах, как хотелось бы, чтобы эклога принцу из Орлеанской династии была бы прервана цензурой Наполеона Малого.
Но так просто Александра не устранить. Он становится главным редактором в «Les Nouvelles». В ноябре он преобразует это издание в «Мушкетера II», без особого, впрочем, успеха, и уже в апреле 1867 газета перестает выходить. Что касается любовных увлечений, то, когда в «Новых мемуарах» он называл их «последними», это означало скорее «самые недавние». В данный же момент хорошенькая двадцатилетняя Сатюрнина является к нему — выразить свое восхищение. В доказательство она предлагает прочитать наизусть целые страницы из «Графа Монте-Кристо»[171]. Поскольку у нее при этом прекрасный почерк, Александр берет ее на службу — вот, кто сменит, наконец, всех этих секретарей-пьяниц, мошенников и бездельников, которых он терпел всю свою жизнь. Параллельная его связь с Олимпией Одуар[172] кажется странной лишь на первый взгляд. Ей тридцать шесть, она рассталась со своим мужем-нотариусом, обожает путешествовать, играть в любительском театре и недавно написала «Войну мужчинам», в которой делит последних на мужчин-бабочек, мужчин-комаров, мужчин-жаворонков и мужчин-уток. Неизвестно, каков анималистский статус Александра, но воинствующая феминистка никак не могла не подпасть под чары того, кто любил женщин как в реальном, так и в воображаемом мире, и так сильно, что в произведениях своих отдавал им лучшие роли.