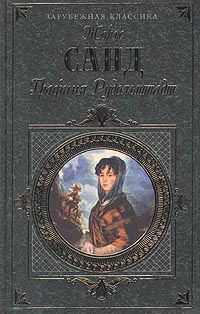– Вормс сказал мне, что из вашей «Дамы с камелиями» вы сделали превосходную пьесу. Вскорости я стану директором Водевиля; подержите для меня с полгода вашу пьесу – обещаю вам ее сыграть.
Шло время. 1851 год был отмечен связью с графиней Нессельроде и поездкой в Германию. Когда Александр вернулся, Буффе, как он и предсказывал, был уже директором Водевиля. Он начал репетировать «Даму с камелиями». Фехтер согласился играть Армана; роль Маргариты Готье была поручена Анаис Фаргей. Актриса была в должной мере красива, но раздражала Дюма своей глупостью.
– Ах, скажите, – спрашивала она, – неужели эта девица все пять актов будет выплевывать свои легкие?
– Простите, мадемуазель, но ведь это происходит с ней только в пятом акте – когда она при смерти.
– Пусть так. Но коль скоро вы вращались в этом кругу, сделайте милость, расскажите мне о нравах этих девиц – я о них ничего не знаю.
– Честное слово, мадемуазель, если вы не узнали их до сих пор, пока вы молоды, то не узнаете уже никогда.
Она стала до того невыносима, что автор и директор единодушно порешили искать другую Маргариту. Фехтер предложил госпожу Дош.
– Вот это мысль! – сказал Буффе. – Дош крайне соблазнительна. Это как раз то, что нужно. Но где, черт возьми, ее отыскать? Я не знаю, куда она девалась.
– А я знаю, – заявил Фехтер. – Она в Англии. Я поеду за ней.
Карьера госпожи Дош была весьма необычна. Урожденная Мари-Шарлотта-Эжени Планкет, она происходила из знатной ирландской семьи, обосновавшейся в Бельгии. Там она и родилась. Когда ей было четырнадцать лет, умер ее отец, и она решила «податься в театр». Ее приняли. В возрасте семнадцати лет, она вышла замуж за композитора Александра Доша[36], главного дирижера Водевиля, сорокалетнего вдовца, но этот брак окончился катастрофой. Два года спустя Дош эмигрировал в Россию, бросив жену-подростка, которая обманывала его с поистине изумительной ловкостью. Публика продолжала рукоплескать «малютке Дош», ее лебединой шее и осиной талии. Эта актриса-аристократка восхитительно одевалась, составила себе прекрасную библиотеку, покупала картины мастеров и помогала своим бедствующим товарищам-актерам.
Разочаровавшись в ролях, которые ей предлагали в Париже, она уехала в Лондон, по слухам, приняв решение больше не появляться на подмостках. Фехтер отправился к ней и рассказал о «Даме с камелиями». «Все актрисы Парижа отказались от этой роли. Не хочешь ли ты попытать счастья?» Она прослушала пьесу, аплодировала, плакала, немедля уложила чемоданы и на следующий же день по приезде в Париж начала репетировать. «Все у нее было в избытке, – говорил позднее Дюма-сын, – молодость, красота, обаяние и талант… Когда она играла эту роль, казалось, будто она написала ее сама». Но директор театра Буффе не очень-то обнадеживал.
– Да что там! – говорил он госпоже Дош. – Вы будете играть «Даму» в очередь с «Уистити», то есть через два дня на третий, а быть может, и всего только раз двенадцать-тринадцать.
Остальные исполнители не скрывали тревоги. Смелый сюжет казался им неприемлемым. И цензура – увы! – разделяла это мнение. Суровый и надменный Леон Фоше, занимавший в 1851 году пост министра полиции, запретил пьесу. Это произошло до государственного переворота, и Дюма-отец был еще в довольно хороших отношениях с принцем-президентом. Сын, придя в отчаяние, послал на переговоры отца. Однако цензор, господин де Бофор, заявил, что не может допустить такого скандала, хотя бы ради репутации обоих Александров Дюма.
– Если мы разрешим представить подобную пьесу, то публика еще до конца второго акта начнет швырять на сцену скамейки.
– В один прекрасный день, – заявил Дюма-сын, – появится министр, достаточно умный для того, чтобы разрешить мою пьесу. Приглашаю вас на спектакль, он будет иметь грандиозный успех.
– Я желаю вам этого, сударь, но не могу в это поверить.
Госпожа Дош близко познакомилась в Лондоне с Луи-Наполеоном и его министром внутренних дел Персиньи. Она принялась хлопотать за свою пьесу.
– Пусть этой девочке вернут ее роль, – заявил Персиньи.
На одну из репетиций явился Морни. Он был не робкого десятка, но потребовал «на всякий случай» свидетельство о морали за подписью трех видных писателей. Дюма-сын отправился к Жюлю Жанену, Леону Гозлану и Эмилю Ожье; они прочитали пьесу и рекомендовали ее к постановке. Несмотря на тройное поручительство, Леон Фоше оставался непоколебим. Наступило 2 декабря. Луи-Наполеон провозгласил себя пожизненным президентом, затем – императором. Морни занял место Фоше. Три дня спустя после своего назначения сводный брат императора снял запрет с пьесы.
Успех ее был поразителен; автора наперебой вызывали, забрасывая его мокрыми от слез букетами, «которые женщины, – говорит Теофиль Готье, – срывали со своей груди».
«Мари Дюплесси удостоилась, наконец, памятника, которого мы для нее добивались. Поэт заменил скульптора, только вместо тела мы получили душу, и госпожа Дош дала ей очаровательное воплощение… Наивысшую честь поэту делает то, что во всех пяти актах его пьесы нет ни малейшей интриги, ни малейшей неожиданности, ни малейшего усложнения… Что касается идеи, то она такая же древняя, как сама любовь, и такая же вечно юная. По правде говоря, это не идея, а чувство. Должно быть, драмоделы крайне изумлены успехом этой пьесы, которого они не могут себе объяснить и который опровергает все их теории. Бессмертная история влюбленной куртизанки, ты всегда будешь искушать поэтов!.. Понадобилось немалое искусство, чтобы в наше время – время засилья англо-женевского ханжества – представить на театре сцены современной жизни так, как они происходят в действительности, не сглаживая их никакими увертками… Диалог усеян свежими остротами, которые поражают своей неожиданностью, полон словесных стычек, реплики звенят и мечут искры, как скрещенные клинки. Во всем чувствуется молодой, ясный ум, который не маринует свои остроты по три года в записной книжке, дожидаясь возможности пустить их в ход».
Госпожа Дош на самом деле потеряла сознание, а Фехтер в неистовстве отчаяния порвал ей кружев на шесть тысяч франков. У выхода Александра ждали друзья, чтобы вместе с ним отпраздновать успех. Но он попросил извинить его. «Я ужинаю с одной женщиной», – сказал он им. Эта женщина была его мать – Катрина Лабе. «В тот вечер мы пировали по-венециански! Чудесная еда – ломтик ветчины, чечевица с прованским маслом, швейцарский сыр и чернослив. В жизни своей так вкусно не ужинал!» Отцу, который не хотел покидать Брюсселя, пока не будет подписано его соглашение с кредиторами, он телеграфировал: