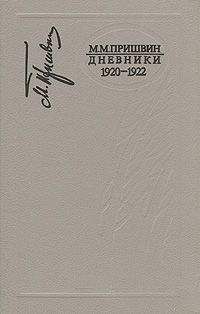5 Февраля. Лева просыпался медленно, но когда проснулся, быстро встал и вышел к чаю. Появились обычные резкие движения руки, улыбался, рассказывал про охоту, глаза приобрели обычное осмысленное выражение и вообще был утром за чаем похож на мальчика, на прежнего Леву. Полная надежда, что ужасная советская болезнь миновала — подарок мне в день рождения моего: 49 лет. И сам я видел в эту ночь сон хороший, будто бы в нашем старом доме я с мамой перехожу из комнаты в комнату, и так мне хорошо, будто становлюсь на свое место, как-то очень ладно прихожусь ко всему, и все вокруг детское: и звук веялки, и распоряжения Ивана Мих. Особенно понравилось в комнате Лиды — тут жить! Мать сказала: «Вот мы все думали, как велик для нас дом и как он теперь уменьшился; дома от времени всегда уменьшаются, вот посмотри, какой он будет маленький лет через двадцать пять».
О «Мише» все больше выясняется, что все иллюзии изжиты, и, если устроить ее, то одной ей будет много лучше, что я ей в тягость.
7 Февраля. Пишет Разумник с торжеством, что Ремизов раскаивается, что убежал за границу.
Дорогой Р. В.{133}
6-го Января (Крещение) мы с Левой собрались уезжать, он в Москву продолжать ученье, я в Питер к Вам, и вот вдруг Леву задергало, и он уснул и спал непробудно две недели. Теперь он встал, жизнь его, кажется, вне опасности, но совершенно разбит, и лечить его придется очень долго. Это болезнь на почве голодания в Москве <1 нрзб.> — неизвестная в медицине, новая советская болезнь «спячка». Не знаю уж теперь, когда мне удастся выбраться. Ехать вообще риск — по нашей дороге свирепствует тиф. Но я бы ни на что не посмотрел, если бы имел в виду большее, чем издание «Чертовой Ступы» (ведь когда-нибудь все равно издадут) и драгоценного свидания с Вами и Питером. Что же это большее? Это очень трудно объяснить после 5-ти летнего перерыва в наших беседах, но я попробую. Видите что: земля наша лежит без связи (недаром же и крестьяне стали индивидуалистами и разбегаются на хутора); есть в нашей жизни какое-то чудище, перед которым всякая попытка связать что-нибудь, соединить кажется мне, человеку на границе старости, — наивной. Отчего у меня и перо выпадает из рук, отчего и Ваши Вольфилы и проч. (вся Ваша Петербургско-эмигрантская жизнь) кажется дымом. Вообще вас всех, ученых, образованных и истинных людей в Петербурге, я считаю людьми заграничными, и вы меня маните, как заграница, как бегство от чудища. (Что Вы спорите с Ремизовым, где быть, в Питере или за границей, мне кажется делом вашим семейным.) Много раз я пытался уехать за границу (или в Питер), и каждый раз меня останавливала не мысль, а чувство, которого я выразить не могу и которого стыжусь: оно похоже на лень, которую Гончаров внешне порицает в Обломове и тайно прославляет как животворящее начало, однако, и больше «лени» этой: Чудище имеет в себе змеиную притягательную силу, всматриваешься в него, и тянет, а там, за границей — шоколад, чай с сахаром, сигары, Вольфилы, издания, щекот свободы и самолюбия и главное, что при госуд. пайке возможность соединять мыслью миры, подумаешь о загранице, и как будто трудно пасьянс сложить. Вы не думайте, что в этом состоянии я погиб окончательно, нет! я надеюсь найти выход в опыте, вот, думаю, поеду к Вам и найду там то «бо́льшее», чего я не вижу здесь, потому что, в конце концов, с головы же мысль идет, а не с брюха. Ничего не значит, что все, кто приезжает от вас к нам (например, я видел летом Б. М. Энгельгардта), только подтверждают бессвязность и оторванность вас, — мои глаза совсем другие, я могу увидеть такое, что вы сами не видите (т. е. это такие мои мечты, а не гордость). Другое утешение мое чисто обывательское, я думаю, что рано или поздно Чудище «кончится» и мы все свяжемся. Почему же, спросите, я не думаю, чтобы кончить Чудище? видите, это нельзя сделать одному, я все пробовал, нельзя писать, — я говорил так, что дети бежали учиться в Москву, как мы, дети, бежали в Америку, — и возвращались разбитые, в 70 лет старики, как мой Лева говорил, на могилах — все плакали, а возвратясь домой, напивались самогону и опять смеялись, я все пробовал — не соединяются. А если в этом житейско-тайном и обыкновенном деле люди не соединяются, то как я могу говорить о соединении на поверхности (разные там партии и т. п.). Вот почему я не пробую Чудище кончить и мечтаю, что оно само кончится. В этом смысле только я и ценю, напр., слухи об изданиях и что можно продать пьесу и т. д. Получишь от Вас письмо, обрадуешься — еду, еду, еду! потом раздумаешь о Вашей двойственной природе (Андрей Белый и курсистки) — нет! подумаешь, Вольфил, издания — это у него курсистки, а внутри — темно для меня; потом я знаю, что Вы человек практический, пчелиного свойства, и я нужен для Вашего улья, это хорошо и метко и я тут могу: Ваш улей я вижу, но не вижу пасеки. Что, если бы Вы хоть два слова написали о пасеке, как бы Вы меня обрадовали.
С переездом в Иваники создалось так, что у меня нет ни одной книги (кроме Ключевского и детских учебников), нет ни одной газеты (даже «Известий», даже сельскохозяйственной), нет ни одного человека, мало-мальски меня понимающего (кроме больного Левы), — можете себе представить, как я радуюсь письму. А еще, если бы книжки прислали от какого-нибудь автора в подарок, как раньше делалось?
Задумал я, было, составить книгу под общим заглавием «Чертова Ступа» — первой поместил бы сцену (пьесу), потом показал бы все пережитое (многое написано в отрывках), да поработаю, поработаю и оборвусь — нецензурно выходит (напр., как опускают в прорубь мужика при взыскании чрезв. налога), скажут, что это я против существующей власти выхожу, а не против Чудища. Между тем я против существующей власти не иду, потому что мне мешает чувство моей причастности к ней. В творчестве Чудища, конечно, участие было самое маленькое, бессознательное и состояло скорее в попустительстве, легкомыслии и пр., но все-таки… власть эта уже, так сказать, последствие, нагар, пустяковый шлак, всплывающий наверх (кто не засыпал, читая экономические фельетоны Ленина, кто не смеялся над Луначарским и над селянским министром), не в этом, конечно, дело.
Итак, я жду, что Чудище кончится, и жду от Вас узнать, во-первых, отличаетесь ли в этом ожидании, по существу, от меня, а если не отличаетесь, то, во-вторых, нет ли каких признаков нового времени. Чрезвычайно интересует меня затея Ремизова, не могу понять, — что его гонит из-за границы и что его туда погнало, кажется, человек умный и с бухты-барахты ничего не делает. Микитов нам писал, что там очень хорошо зарабатывать и жить можно, — а разве это мало? Если тоска по родине, так Петербург современный та же эмиграция и отвлеченность (Вольфил). Если Вы мне ответите, то я напишу Вам следующее письмо в защиту социализма, потому что я уверен, что в Вашем улье многие считают провал советский — провалом идеи социализма.