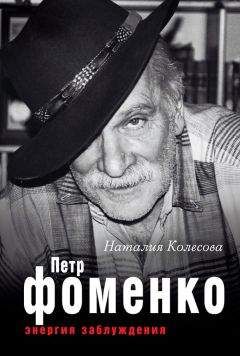Два замысла
Когда Петр Наумович фантазировал, казалось, он сочиняет на ходу. Возможно, порой так оно и было. Но мне все больше кажется, что в этих фантазиях-импровизациях шлифовались замыслы, которые могли бы стать поводом для «настоящей» истории. Иногда они воплощались, а иногда так и оставались в гениальных рассказах, несбывшихся видениях и поэтических мечтаниях острого ума. Красота идеи порой ценнее воплощения. Из оставшихся в моих записях две выглядят особенно блестящими и завершенными. В сущности, готовыми сценариями. Это экспромт-фантазия на тему «Шинели» Гоголя и «Наше всё» – фантасмагория о памятнике Пушкину.
Этюд к повести Гоголи «Шинель»Приходит Акакий Акакиевич к немцу-портному, чтобы перешить шинель. Тот берет, проверяет ткань на разрыв, на «протык», демонстрируя безнадежную ветхость шинели. Предлагает сделать новую, но, не дождавшись понимания от Акакия Акакиевича, выкидывает ее в сердцах в окно, чтобы избавиться от назойливого чиновника. И грустный Акакий Акакиевич, свесившись из окна, наблюдает, как его любимая старая шинель мед-лен-но пла-ни-ру-ет вниз. Потом он вдруг резко выпрямляется, отпрянув от подоконника, а из-за окна поднимается, неспешно «вплывая» в проем, прекрасная женщина. Она закутана в «шубу мечты», в которую, как мы понимаем, чудом переродилась его шинель. Достигнув подоконника, она, твердо ступив сапожком, впорхнула в комнату.
!…
Видения, красота, духи и туманы!..
!..
Повернувшись спиной к зрителям, женщина распахнула шубу (под которой, как нетрудно догадаться, ничего не было), приняв в свои горячие объятия Акакия Акакиевича. Потом она вместе с ним, укутанным, повернулась к залу. Мы видим его полное счастья и блаженства лицо под воротником, в разрезе шубы.
В жарком овраге мехов неожиданной гостьи он чуть не задохнулся…
Количество любви, нежности, искушения, наслаждения перешло в качество счастья…
Потом она легко освободила его из «объятий» шинели, взлетела на подоконник, запахнула полы шубы, всю красоту свою, божественные волосы, сливающиеся с воротником и… вознеслась… Видение растаяло…
Обалдевший Акакий Акакиевич, вздрогнув, вернулся к реальности…
Немец чертил что-то мелом на чужом сукне…
Башмачкин окаменел…
Фантазия «На Тверском бульваре»(замысел пушкинского спектакля «Наше всё»)Хотел взять за основу постановки стихотворение Маяковского «Юбилейное». Сначала на площади появляется Маяковский и под собственное стихотворение: «Александр Сергеевич, разрешите представиться, Маяковский» снимает Пушкина с пьедестала. Они сидят там поблизости на лавочке, поддают, беседуют… Неторопливо, обстоятельно:
Я тащу вас. Удивляетесь, конечно?
Стиснул? Больно? Извините, дорогой.
У меня, да и у вас, в запасе вечность.
Что нам потерять часок-другой?!
Маяковский вздыхает:
Может, я один действительно жалею,
Что сегодня нету вас в живых…
Глядят – тут Есенин подваливает, слегка пьяный, но со своей темой:
Ребята, мечтая о могучем даре
Того, кто русской стал судьбой,
Стою я на Тверском бульваре,
Стою и говорю с тобой.
Блондинистый, почти белесый,
В легендах ставший как туман,
О Александр! Ты был повеса,
Как я сегодня хулиган…
…А я стою, как пред причастьем,
И говорю в ответ тебе:
Я умер бы сейчас от счастья,
Сподобленный такой судьбе…
Вот так, подблякивая и поторапливая, он третьим «вливается» в беседу двух классиков.
Дальше – больше. Вместе с Маяковским они берутся и перетаскивают Пушкина через Тверскую на старое место – собственно на Тверской бульвар. Пушкин упирается – мол, я сам! Тут мент возникает с палкой: «Здесь нельзя ходить, тут подземный переход есть!» Они ему: «Ты что, мужик, охренел? Не видишь, что ли, кто идет? Ночью-то можно, все гораздо проще!»
Тогда мент начинает им помогать, на время останавливает движение. Переходят, оказываются в сквере напротив «Макдоналдса», где раньше Пушкин и стоял. Потом появляются другие персонажи: вот Блок подвалил из Питера со своим монологом (интеллигент, закомплексованный):
Имя Пушкинского Дома
В Академии наук
Звук понятный и знакомый,
Не пустой для сердца звук!
Это – звоны ледохода
На торжественной реке,
Перекличка парохода
С пароходом вдалеке,
Это – древний Сфинкс, глядящий
Вслед медлительной волне,
Всадник бронзовый, летящий
На недвижном скакуне…
Есенин:
Да к делу, Шурик!
То есть Александр, извините!
Блок знай свое:
Не твоих ли звуков сладость
Вдохновляла в те года?
Не твоя ли, Пушкин, радость,
Окрыляла нас тогда?
(Все мужики немного плачут, грустят, кручинятся, путаются в соплях…)
Блок продолжает:
…Вот зачем в часы заката,
Уходя в ночную тьму,
С белой площади Сената
Тихо кланяюсь ему…
(Это Петр Наумович читал со своей неподражаемой усмешкой и кратким рокочущим смешком. – Н.К.)
Пушкин отвечал поэтам (он пил что-то свое):
Играйте, пойте, о друзья!
Утратьте вечер скоротечный;
И вашей радости беспечной
Сквозь слезы улыбнуся я…
Он жалеет их, поэтов, так как им достанется худшее время. Высокое и низкое перемешались в этой сцене со страшной силой. Блок общается с милиционером, Маяковский – с Есениным. А они все подохренели – им это неподвластно (недостаток в смысле понимания).
Блок: «Знаете, господа, Пушкин ушел от нас и унес некую тайну. И нам еще предстоит ее разгадать». Милиционер: «Х…ли тут разгадывать?» (И заплакал, от безысходности, потому что вообще не понимал, что с ним происходит.) Здесь затронута струна для непробиваемого скота: это их «момент истины», непознаваемого переживания.
Есенин, печалясь, но с восторгом восклицал: «Ты, Шурик, наше все!»
…Поэты двинулись к ЦДЛ.
Подвалили сразу две бабы-поэтессы (Ахматова и Цветаева). Одна абсолютно не удивилась, увидев Александра Сергеевича, вторая – искренняя, незащищенная. Каждая с ходу начала говорить о своем. Бабы-поэтессы просто хотели ощутить, как «это» было в XIX веке у гениев. А он дематериализовался: то есть фигура, одежда остались, а вместо лица – туман. Внешние контуры и приметы ничем не наполнились. Цилиндр вообще забрал франт Маяковский и отошел к другому столику в ресторане ЦДЛ, где появилась Полонская.
…На протяжении всей истории поэты стареют от эпохи к эпохе. (В юности я видел спектакль «Пушкин» Глобы в театре Ермоловой. Якут играл ужасно, но я плакал. И чем хуже он играл, тем больше я плакал.) Пушкин растворился в ЦДЛ, в атмосфере, несовместимой с памятью о жизни. Потом он частично восстановился, как Дон Гуан, «усы плащом закрыв, а брови шляпой», и направился к Театру киноактера – черты поэта угадывались сквозь туманность облика. Рядом – усадьба Ростовых. Подошел, а оттуда выбегает Сергей Безруков. (Это уже ±100 – 50 лет сдвиг относительно последнего временного ориентира. «Отмотай-ка жизнь мою назад, и еще назад…») «Это же я!» – кричит Безруков Пушкину, вглядываясь в его лицо. «Как постарел!» Протягивает руку: «Как мало черт лица!» Рука проходит сквозь плоть. Актер тоже зовет поэта выпить, но понимает, что приведет с собой в дружеский круг только бесплотную оболочку. Обалдевший Безруков быстро теряет к происходящему всякий интерес.