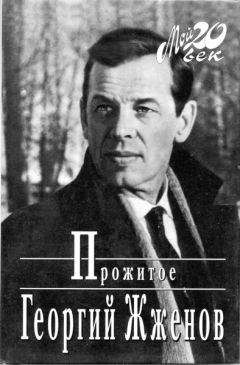— Во всех этих прискорбных случаях Андрей Януарьевич не представлял прокуратуру, а выполнял задания политбюро и лично Сталина.
Не в силах отделаться от застарелой, въевшейся привычки, он произносил имя-отчество генерального прокурора с оттенком подобострастия.
Однако в дни еще не начавшей холодеть «оттепели» на экраны телевизоров проскочили кадры кинохроники, неосмотрительно увековечившие те самые политические процессы. Те самые, в которых судьбы недавних лидеров государства, маршалов, наркомов предопределялись многочасовыми речами Вышинского. Суть же речей-приговоров сводилась к одному: «Собаке — собачья смерть!»
Как рассказывал один из вовремя ушедших на покой прокурорских деятелей, кто-то не побоялся напомнить Андрею Януарьевичу, что «собака — лучший друг человека», что собаками были милые и беззащитные Муму и Каштанка… Тогда главный обвинитель начал провозглашать с трибуны Октябрьского зала Дома союзов, который можно было бы считать удручающим памятником самых громких сталинских судилищ: «Смерть фашистским убийцам!», «Смерть фашистским наймитам!». Не догадывался, быть может, что сам был эсэсовцем во плоти…
Так вот, кинохроника, к содроганию Льва Шейнина, продемонстрировала на всю страну, как он то и дело услужливо подбегал, подкатывался к сатанинской трибуне и подкладывал, подсовывал Андрею Януарьевичу листки, папочки — одним словом, шпаргалки.
Случилось так, что я и всерьез столкнулся с Лёвчиком… Очень уважаемая газета по его инициативе развернула на своих страницах обсуждение: брать или не брать предприятиям и учреждениям «на поруки» уголовных преступников, ручаясь за их перевоспитание и одновременно освобождая их, таким образом, от возмездия.
Между прочим, Лев Романович, предварявший вместе с Вышинским гибель «политических преступников», обычно гордился тем, что его уважают и даже любят уголовные преступники и что они нежно именуют его «Романычем». Отец рассказывал мне, что в сталинских казематах, где он томился, уголовникам неизменно отдавалось предпочтение: они считались «своими». Так вот… На беседе с Аджубеем, подводившей итог газетной дискуссии, я непримиримо высказался против «гуманной инициативы» Льва Романовича, сказал, что жалеть можно либо того, кто убивает, либо того, кого убивают, — совместить эти сострадания невозможно. И еще напомнил слова выдающегося политика: «Либерализм к уголовникам есть худший вид пренебрежения к своему народу». Не ведал я, разумеется, что «мирная инициатива» бывшего сподвижника Вышинского уже одобрена Никитой Сергеевичем и что редакционное обсуждение носит формальный характер. Это дало возможность Лёвчику обвинить меня в «интеллигентской панике».
Вообще эпитеты, происходящие от слова «интеллигенция», Романыч, я заметил, употреблял только в значении негативном. Потому, должно быть, что истинные интеллигенты относились к нему гораздо хуже, чем уголовники.
После обсуждения Алексей Аджубей обнял меня и шепнул:
— Пойми: надо попробовать… Вдруг перевоспитаются!
Затея с «поруками» рухнула даже быстрее, чем я предполагал. Ужасающая волна убийств, насилий, грабежей смыла шейнинскую идею и вынесла на поверхность хрущевское постановление «Об усилении борьбы с преступностью». В день публикации того документа Аджубей, которого я глубоко почитал и почитать продолжаю, уже более крепко обнял меня и извинительно произнес:
— А твоя «интеллигентская паника», выходит, была гонгом… который мы не услышали.
Когда Льву Романовичу ненароком напомнили о том, что в Большом терроре прокуратура играла роль одного из главных сценаристов, он, как к беспроигрышному защитительному аргументу, прибегал к факту своего ареста в финальный период сталинского правления. Шейнин был трусоват: боялся собак, молний, неожиданного скрипа дверей…
Вспомню очерк Василия Гроссмана «Треблинский ад». Очерк и тогда уже наводил на мысль, что ад сталинских лагерей вполне сопоставим с адом Треблинки. Процитирую строки о том, как в день восстания узников вели себя их лагерные палачи:
«Они, существа, столь уверенные в своем могуществе, когда речь шла о казни миллионов… оказались презренными трусами, жалкими, молящими пощады, пресмыкающимися, чуть дело дошло до настоящей смертной драки».
Нет, я не ставлю все-таки знака равенства между убийцами гиммлеровской Треблинки и советниками, помощниками главного официального обвинителя ни в чем не повинных, голос которого предрешал приговоры в Октябрьском зале. Хотя… Они, старательно изобретавшие «обоснования» и «оправдания» сталинских зверств, вполне могут быть названы соучастниками.
Романыч физической боли даже в ничтожных количествах не выносил. От страха он стал заикаться… Его бывший шеф Андрей Януарьевич, тоже не желая страданий, которые столь глобально обрушивал на другие судьбы, сразу после разоблачительного XX съезда либо застрелился в Нью-Йорке, на посту советского представителя в ООН, либо, как было объявлено, скончался от сердечного приступа. Такое извещение не устроило многих, потому что сердечный приступ подразумевал, что у Вышинского было сердце.
Лёвчик нередко и словно бы мимоходом пытался преуменьшить масштаб отечественных злодеяний: «Все-таки в основном Сталин уничтожал своих же собственных ставленников и сподвижников».
Мне не раз приходилось напоминать ему то, о чем, «перелистывая годы», я уже писал… В соседней с отцом камере был заточен целый десятый класс — дети, школьники…
В своем собственном — беспредельно далеком, но и недавнем — детстве я дружил с Витей Радзивиловским. Именитые польские паны Радзивилы к евреям, как известно, отношения не имели. А Виктор тем не менее был евреем. А кроме того — очень компанейским и милым парнем. Милым представлялось мне и все его семейство. Бабушка, искусная кулинарка, постоянно звала нас к столу: «Я приготовила блынчики… Такие блынчики со сметаной!..»
Бушевала вторая — черная! — половина тридцатых годов. Отец мой был арестован. «Блынчики» со сметаной выглядели для меня недоступным деликатесом — и от приглашений гостеприимной Витиной бабушки я не отказывался. Витина мама — пышная рыжеволосая красавица Софа — смотрела на меня сострадательно и незаметно засовывала мне в карманы пальто бутерброды: то с черной икрой, то с красной. Обилие той и другой в доме Радзивиловских удивляло меня. Как и то, что жили они в особняке… Одноэтажном, но все же особняке! До войны это представлялось нереальностью, сказочным «исключением из правил».
Папа Витин был малорослым, щупловатым, тоже рыжеволосо-кудрявым, но, в отличие от мамы, красой не блистал. Лицо было неприметным. По утрам он обычно оказывался дома, что тоже меня удивляло. Он трогательно следил, чтобы мы, учившиеся во «вторую смену», выполняли все домашние задания, сытно заправлялись обедом перед школой, а на пути к ней аккуратно пересекали улицы. Он напутствовал нас всякими заботливыми пожеланиями: «Если проголодаетесь, сходите в буфет! Вот вам деньги. Если вызовут к доске, не теряйтесь…»